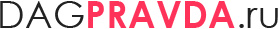Созерцание Абакума
 13
13
1
Сколько себя помню, я рос с чувством некоторого стыда и как будто вины за то, что мой отец – писатель. Я рано осознал странность этого рода деятельности – именно с того дня, когда мне пришлось ответить перед всем классом, кто мой отец по профессии. Кажется, когда я впервые произнес это слово вслух, я ощутил его вкус на языке – и оно показалось мне неприличным.
Отец много работал. Ребенком я часто вставал ночью по малой нужде (потому что, как все подвижные и впечатлительные дети, пил много воды), и мне навсегда запомнилась узкая полоска света, бьющая из его комнаты через темную прихожую. Я боялся темноты и потому был благодарен этому прямому холодному лучу. Это не мешало мне, однако, считать, что писательство – дело одинокое, скучное и бесполезное.
Когда мы научились писать, Людмила Васильевна задала нам сочинение на тему «Кем я хочу стать». Вопрос был неожиданный: выходило, что надо было еще кем-то стать, как будто меня еще совсем не было; к кому же тогда был обращен вопрос? Но авторитет взрослых был в то время непререкаем, и я представил, что меня еще нет. «Кем ты хочешь стать?» – спросил я себя. Я точно знал, кем я не хочу стать, но для сочинения этого было недостаточно, а положительного ответа не было. Я предвидел, что вакансии путешественника, космонавта и разведчика наверняка будут заняты, и не хотел претендовать на то же, что другие. Если не получалось быть искренним, то хотелось быть, по меньшей мере, оригинальным. Глядя в окно и сосредоточенно грызя мозоль от ручки на среднем пальце (первый результат просвещения), я перебирал в голове известные мне профессии и занятия, пока не вспомнил то, что мне было нужно.
Недалеко от нашего дома, прямо у пыльной тропинки, ведущей к трамвайной остановке, с незапамятных времен (то есть, сколько я себя помнил) сидел в бледной тени полувысохшей сливы старик-армянин, сапожник. Я видел его каждый раз, когда мама отправляла меня в гастроном, и всегда как-то завидовал его особенности и самостоятельности. Он был худой и черный, с какой-то голубой проседью, почти не разговаривал (только один раз я слышал, как он говорит: нет народа, который говорит по-русски красивее армян), заказ принимал молча, и только раз, при прощании, коротко кивал головой. Конечно, тогда я выразился бы иначе, но он нравился мне неожиданным сочетанием суровости и смирения во всех деталях и в целом его облика – от пластики и мимики до костюма. Особенно мне нравился его потертый фартук из коричневой кожи, своим бронзовым отливом напоминавший мне рыцарский доспех. Сапожника называли Абакум, и его имя тоже было чем-то очень приятно. Незадолго до этого он починил мне любимые ботинки, с которыми я ни за что не хотел расставаться; до того случая я никогда не испытывал в сердце такой благодарности к человеку.
Времени до звонка оставалось немного, и я, не заботясь о стройности изложения, написал что-то вроде того, что сапожники – самые важные люди на земле, потому что без ботинок и сапог не бывает ни учителя, ни разведчика, не говоря уже о путешественнике; что сапожнику никто не нужен, а в нем нуждаются все; что к нему подходят, с ним заговаривают вежливо, почтительно, стоя, как верноподданные, – а он сидит, как король.
Уроки закончились, но, прежде чем пойти домой, мне захотелось посмотреть на Абакума. Теперь я испытывал к нему нечто большее и гораздо более сложное, чем просто благодарность за починенные ботинки. С той минуты, как я поставил точку в конце сочинения и сдал тетрадь на проверку, этот человек стал мне как-то странно близок, он был даже важнее отца и матери. Наверное, я просто хотел убедиться, таков ли он на самом деле, каким я его представил, пока писал сочинение. Абакум пришел мне на память в минуту праздномыслия (напомню, что я хотел быть только оригинальным), но неожиданно я столкнулся с чем-то серьезным, личным, искренним. Надеясь компенсировать время, которое у меня могло отнять созерцание Абакума, я быстро шагал к трамвайной остановке, смутно беспокоясь о том, что его почему-то не будет на обычном месте. Но когда мне оставалось повернуть за последний угол, я испугался другого: именно, что Абакум будет там, где и всегда, и он посмотрит на меня – и узнает. Я даже остановился, чтобы обдумать положение. Я понимал, что опасение нелепо, что Абакум не читал моего сочинения и никак не может меня узнать. В то же время в груди шевельнулось незнакомое ревнивое чувство: почему Абакум может не узнать меня, если он теперь так много для меня значит, если он так занимает мои мысли?
Я рассеянно поднял с земли оброненную кем-то несвежую ветку сирени и сообразил, что она отведет сапожнику глаза. Потоптавшись еще немного на месте и подпрыгнув два раза, чтобы оправить лямки тяжелого ранца, я собрался с духом и вышел из-за угла.
Он был на месте. Он сидел, как обычно, сгорбившись, на своем низеньком деревянном табурете, зажав между острых колен колоду, и постукивал по ней своим восхитительным изящным молоточком, то и дело вынимая изо рта блестящие гвоздики. Старая слива над его головой уже отцвела (был конец апреля), но тем скудным и бледным цветом, который не радует, а удручает взгляд, потому что весна коснулась ее только наполовину. Она была угловатая, как японская сакура (я видел ее в энциклопедии), как Абакум; ее черные, словно изломанные, ветви были неподвижны, и только редкие молодые листочки едва заметно трепетали на ветру, как голубые Абакумовы пряди.
Абакум был погружен в работу, и я решился, напустив на себя равнодушный и независимый вид, рассмотреть его поближе. «В конце концов, могла же мама послать меня за хлебом», – сказал я себе и еще кому-то. Непринужденно размахивая сиреневой веткой, я прошел мимо Абакума один, другой раз, потом, видя, что Абакуму все равно, остановился напротив сливы.
Я не увидел ничего нового – и в то же время все было как будто другим в Абакуме. И то другое, неизвестное, что я сейчас в нем видел, было ближе и понятнее, чем его прежний облик. Я смотрел и видел, как исчезает, как растворяется в воздухе прежний Абакум, пока его совсем не стало. Прежний был только Абакум, армянин, сапожник, который починил мне ботинки; этот, настоящий, был призрак, загадка, вопрос, и не в последнюю очередь вопрос означал – «кем ты хочешь стать? кем ты будешь? что ждет тебя впереди?». Я смотрел на Абакума и впервые видел время за горизонтами личного бытия. Я думал: вот, было же время, когда меня еще не было, а Абакум был; и будет время, когда я буду, а Абакума не будет; и будет время, когда не будет ни меня, ни Абакума; и я раскаялся в том, что так легкомысленно и лукаво писал о сапожниках.
Тогда Абакум поднял голову и посмотрел прямо на меня. Глаза у него были усталые, но молодые, прозрачно-зеленые, обворожительно красивые. Я стоял от него в пяти-шести шагах, но в тот миг, когда наши взгляды пересеклись, я почувствовал так, словно я опрокинулся в Абакума, а Абакум опрокинулся в меня. Потом он посмотрел куда-то мне под ноги, и я сообразил, что если он и не читал моего сочинения, то, конечно, узнает меня по ботинкам (на мне были те самые).
Я отшвырнул ветку сирени, как будто она обожгла мне пальцы, и бросился бежать.
2
Я прибежал домой запыхавшийся и мокрый не столько от бега (бежать было недалеко), сколько от впечатления. Было такое чувство, что я подсматривал или подслушивал, а меня уличили. Я бросился на кухню, к раковине, и выпил, чуть не задохнувшись, полную чашку пенящейся, обжигающе холодной воды. И через минуту, когда отдышался и снял ботинки и ранец, еще одну.
Целый день все напоминало мне об Абакуме, а к вечеру у меня запершило в горле и заболела голова. Мама прижалась губами к моему лбу и долго не отпускала, а мне было душно, и я на нее досадовал и толкался.
– У него температура, – сказала она.
– Ничего страшного, – сказал отец. – У меня тоже температура.
– Чтобы съесть тебе его болезни, – сказала мама.
– Оммен, – ответил отец.
Мама отнесла меня на руках в спальню и положила на кровать, потом зажгла свет. Люстра с хрустальными подвесками показалась мне огромной, в полнеба, и я испугался, что она сейчас упадет на кровать, и я сгорю.
Потом надо мной склонялось лицо незнакомой женщины; она тоже была чем-то напугана и встревожена, и мне становилось еще страшней.
– Он бредит, – сказала женщина. – Он бредит, он бредит.
– Вы оба бредите, – отвечал мужской голос, – сколько раз говорил тебе: не давай ему пить холодной воды.
– Лучше поплюй на него, дурной глаз. Это ты виноват, ты его сглазил.
– Когда? Я его сегодня и не видел.
– А кого ты видишь? Ты никого не видишь, ты ничего не видишь.
«Значит, – подумал я, – отец слепой. – Но как же он тогда пишет свои книги?». Я падал в черную яму, я взлетал высоко в небо, к самому солнцу, самой люстре, меня хватали чьи-то холодные руки, насильно укладывали в постель и держали меня за ноги и за голову, и давили на грудь, чтобы я не улетел. «Я не хочу, я не хочу спать!», – кричал я. «Какой ребенок любит спать ложиться!», – смеялся отец и, злорадствуя, плевал мне в глаза. «Теперь уходи, дурной глаз, уходи, слепой, уходи, – говорила мама и изо всех сил давила мне на лоб. – И разогрей воду, слепой, разогрей». Мне стало жалко отца, что он слепой, и я закричал: «Там ботинки! Там ботинки!». Я услышал этот крик и вспомнил про Абакума. На самом деле я не забывал о нем ни на минуту, я просто спрятал его глубоко, оставил на потом. В пальцах правой руки я все время осязал нить, которую нельзя было отпускать; и вот она тоже стала толстая, как веревка, как канат или труба; и труба гудела: «аб-бакум-м-м, аб-бакум-м-м, аб-бакум-м-м», – как будто это была не труба, а змея, которая хочет меня проглотить, но не достает, потому что я крепко держу ее за горло в вытянутых руках. «Ну, здрасцвуй, Григор. Как дзела? Цемпература?» – сказал Абакум, и наступила тишина. «Я не Григор», – сказал я. – «Я тоже не Абакум, – сказал Абакум. – Скажи, разве я хоця бы раз сказала, что меня звац Абакумом?» – «Абакумом?! – вскричал я от удивления. – Значит, тебя звать Абакумом, а не Абакум?!».
– Будь проклят этот сапожник! – звонко и строго сказал мамин голос. – Выбрось эти ботинки, выбрось! Сейчас, сейчас выбрось.
«Тебя все так называют», – сказал я шепотом, чтобы мама не услышала, и вдруг понял, что могу говорить с Абакумом, совсем не открывая рта. Тогда я расслабился, отпустил змею и вздохнул глубоко и спокойно. «Слышал? – они сейчас выбросят мои ботинки, которые ты починил». – «Пусц. У цэбя, ара, новые будут. А можна, я покурю?» – «Можно, – сказал я, – только, смотри, чтобы мама не увидела». – «Не увидзит никто, не бойся». – «Разве мама тоже слепая?», – спросил я. Абакум присел мне на ноги, закурил мятую, кривую «Астру» и, отмахнувшись от дыма, сказал: «Послушай, ара, ты зачем писала, что хочешь сапожником быц? Зачем абманывац? Сапожником никто не хочет быц: сапожник должен быц. Я, например, когда маленький была, хоцела писацелем стац. Как Григор Нарекаци. Ты разве сцихи не любишь?» – «Не знаю», – сказал я. «Ара, прочитай что-нибудзь». Я подумал и прочитал то, что мне нравилось:
Три принца в солнечном саду
Играли в мяч с утра,
И с ними вышла погулять
Их младшая сестра.
Чайлд-Роланд, догоняя мяч,
Ногой его поддел,
И мяч, подпрыгнув к облакам,
За церковь улетел.
За улетающим мячом
Бежит принцесса вслед;
Проходит час, за ним другой –
Ее все нет и нет.
Три брата бросились за ней
Во все концы земли,
В тоске искали много дней,
Но так и не нашли…
Абакум всплеснул руками: «Как эта прекрастна, ара!.. У цебя сестра есц?» – «Есть, – сказал я, – она в другой комнате, спит. Она младше меня на два года». – «Вот видишь, ара, какие эта прекрастные сцихи! А ты скажешь: сапожником хочу, как Абакум. Дундук! Что на меня уставился, ара? Ты на атца своему посмотри. Он такой же Абакум, как я!» – Абакум отвернулся к окну, глубоко и сердито затянулся сигаретой и хрипло закашлялся. Потом посмотрел на меня серьезно, как еще никто из взрослых, потянулся ко мне и больно, как будто у него были деревянные пальцы, погладил меня по голове. «Ну, не серди, Григор, не обижай. Бацинки – последний, что нада человеку для счасца. Потому что за счасцем никуда не нада ходзиць. Она всегда с тобой, Григор». – «Теперь ты уходишь?» – спросил я. – «Да, – сказал Абакум и хитро улыбнулся. – А что, хочешь еще сцихи почитаць?» – «Ты мне ноги отдавил», – сказал я. Абакум засмеялся громко и весело, счастливо зажмурившись и запрокинув голову. Я увидел, как стучит его сухой острый кадык, и тоже засмеялся.
– Что он смеется? – прозвучал с той стороны голос отца. – Это хорошо или плохо?
«А ты как меня узнал? По ботинкам?», – спросил я. «Конечно, по бацинкам. Разве я твое сочинение читала? Ее еще твоя учицэлница не читала», – Абакум снова засмеялся, и я тоже захохотал, как сумасшедший, как больной. На сердце было легко и просторно; я летел, широко раскинув руки, в прозрачно-зеленые глаза Абакума.
3
Я открыл глаза и увидел солнечный зайчик на потолке, который дышал и дрожал тонкой, как паутина, рябью. Я обрадовался этой загадке и долго думал о его, зайчика, происхождении, а потом понял, что это отражение солнца в луже под окном маминой спальни (мы жили на первом этаже). Лужа была хорошо знакомая: после обильного проливного дождя она напоминала формой большую грушу, и мы пускали в ней бумажные корабли, потом груша превращалась в яблоко, а яблоко – в дольку мандарина. Это окно выходило на восток: значит, была первая половина дня. Чирикали воробьи; легкий тюль колыхался против приоткрытой форточки. Было хорошо и тихо, и не хотелось шевелиться. Я задремал, и в прихожей стукнула дверь.
– Отчего он умер? – тихо спросил мамин голос.
«Разве я умер?» – подумал я, и не испугался.
– Сердце, – сказал отец. – Так и остался сидеть. Ночь под своим деревом, утром увидели. А как мальчик?
– Пусть заберет он с собой нашего мальчика болезни, – сказала мама обиженно.
– Пусть, кто ему не дает? Он добрый был человек. Скромный. А ты. А я. А я говорю, не клянись, не кляни, не проклинай. Вот что я говорю.
– Брось. Как будто я его убила.
– Кто знает? Может быть, не ты. А может быть, ты. Можно мальчика посмотреть?
Я услышал, как шаги затихли под дверью, и кто-то нерешительно тронул ее с той стороны. Мне не хотелось шевелиться и разговаривать, как будто у меня на груди стояла чаша, полная воды, которую было страшно расплескать, а хотелось выпить ее по глоточку. Я закрыл глаза. Я слышал, как дышали отец и мать, стоя в дверях, и, казалось, явственно ощущал их взгляд на своем лице. От него было страшно щекотно, но я вытерпел до конца. Когда дверь снова закрылась, щекотка прошла. «Значит, это не я, это Абакум умер, – подумал я. – Интересно, как это – быть мертвым?». Я попытался представить себе, что я умер, но воробьи за окном возвращали меня к жизни. «Наверное, – сказал я себе, – это похоже на то, как быть еще не рожденным. Но если нет никакой разницы, то, может быть, Абакум еще родится? И тогда он будет мальчиком, а я буду стариком»: я сделал глоток из чаши.
«Отчего умер Абакум? Разве сердце – это болезнь? Как мама могла наслать на него эту болезнь? Она сказала: будь проклят этот сапожник. Разве это может убить?». Я представил себе, как Абакум сидит под своей сливой и постукивает молоточком, вынимая гвоздики изо рта. Потом он перестал стучать и просто сидел. Он сидел так всю ночь, и во рту у него блестели золотые гвоздики, и ему не было страшно темноты, потому что внутри у него тоже была темнота, только гвоздики блестели во рту; и утром соседи увидели, что он не стучит и совсем холодный, и вынули гвоздики, и отобрали молоточек. Я сделал еще глоток.
«Сколько я болел? Что значит «бредить»? Видеть то, что не видят другие? Абакум приходил; он был здесь, в этой комнате, он сидел на этой кровати, он отдавил мне ноги, мы смеялись, он сказал: на своего отца посмотри. Как это? И еще сказал: у тебя новые ботинки будут. И еще что-то, про счастье». Я сделал еще глоток и услышал, как снова открылась дверь.
Больше не хотелось притворяться. Я повернул голову и увидел Белку, которая была младше меня на два года. У нее был немного растерянный вид, только рыжая кукла в ее руках улыбалась, как всегда. Увидев, что я не сплю, она зашла и аккуратно прикрыла за собой дверь. Мы смотрели друг на друга, и я представил себе, как Белка убегает за мячом – и не возвращается. Она подошла к кровати и спросила:
– Ты больной?
– Да, – ответил я.
– А что у тебя болит?
– Не знаю, – сказал я. – Может быть, сердце?
– Я тоже хочу болеть, – сказала Белка.
– И бредить?
– А что это? – спросила Белка.
– Видеть то, что другие не видят, – сказал я.
Белка смотрела спокойно, умно, как будто видела меня в первый раз в жизни.
– Да, хочу.
– Абакум умер? – спросил я.
– Умер.
– Когда?
– Когда ты был больной.
– Вчера?
– Не знаю. Хочешь, я скажу маме и папе, что ты проснулся?
Я подумал и сказал:
– Скажи.
– Хорошо, – сказала Белка. – А папа твои ботинки выбросил. Потому что ты из-за них заболел. – И побежала, звонко шлепая босыми ногами, из комнаты.
«У меня будут новые. И еще он сказал, что за счастьем никуда не надо ходить». Я допил то, что оставалось в чаше, и услышал, как задвигались на кухне, узнав о моем пробуждении.
4
Как выяснилось, я болел всего три дня. Абакума еще не похоронили, и я до самого вечера представлял себе с каким-то странным вниманием и удовольствием, словно это был мой враг, как он лежит в гробу. На следующий день ближе к полудню мама сказала мне встать с постели, хотя я был еще слаб; колени дрожали, я не устоял в туалете и немного намочил пол. Мама помогла мне одеться, дала мне чашку горячего чаю с калиновым вареньем, хотя мне хотелось только холодной воды, а спустя несколько минут я услышал издалека торжественную и грустную музыку. Я посмотрел на маму, и она улыбнулась как-то стесненно, будто виновато.
Еще в течение недели после похорон Абакума я не ходил в школу, и на имени сапожника было табу. Я начал скучать по урокам, по товарищам и Людмиле Васильевне и не мог себе представить, что все время, пока меня там нет, школа продолжала жить своей обычной жизнью. Уже совсем здоровый, я кое-как высидел дома длинную субботу и бесконечное воскресенье и проснулся в понедельник засветло. Поднялось оранжевое солнце, и мама открыла окна нараспашку; мы сидели вместе на нашей тесной кухне и пили чай, отгоняя от стола с завтраком быстрых мух и задумчивых, солидных ос, которые залетали к нам, блестя на солнце крыльями. Отец говорил, махая рукой:
– Кыш, кыш!.. – и мы с Белкой смеялись. Мне было почему-то неловко смеяться, но от этого становилось еще смешней, смех сладко душил внутри, а потом прорывался наружу с ощущением полнейшего счастья.
– Па, скажи еще!.. – просила Белка, хватая отца за лицо, чтобы развернуть его к себе. Отец тоже смеялся и говорил смешнее и громче:
– Кыш, кыш, кыш! – и посматривал на маму, которая держалась строже, улыбалась сдержанно и спокойно.
Потом я надел белую накрахмаленную сорочку, синий костюм, а мама поставила передо мной новые ботинки. Я и раньше знал, что они уже есть, что они стоят где-нибудь в шифоньере, мерцая лунными бликами, и ждут своего часа, и гадал, будут ли они так же хороши, как прежние. Я с первого взгляда увидел, что они были ничуть не хуже, а даже лучше, потому что были выше, по щиколотку, в них было больше дырочек для шнурков, и каблук был точнее и деликатнее профилем. Я затянул шнурки туго, как делал всегда, и почувствовал, как приятно и надежно ботинки сидят на ноге.
– Это отец тебе купил. Носи на здоровье, на счастье, – сказала мама.
– Спасибо, – сказал я.
Подошел отец, прибежала Белка с куклой, чтобы посмотреть на мои новые ботинки.
– Не малы? – спросил отец деловито.
Глядя на ботинки, я покачал головой.
– И не велики? – я опять покачал головой.
– Тогда хорошо.
– Что такое «хорошо»? – возмутилась мама. – Немедленно скажи: «Носи на счастье» и поплюй на него, дурной глаз…
Отец снова, неизвестно почему, начал смеяться, а мама погрозила ему кулаком, и вдруг тоже засмеялась, тихо и смиренно. Отец опустился передо мной на одно колено, деликатно поплевал мне в лоб и сказал:
– Носи на здоровье, на счастье.
Я пошел в школу, поглядывая под ноги и стараясь не наступать на острые камешки. В ботинках отражалось солнце, и я немного стеснялся их первозданного блеска.
5
В школе все было по-прежнему. Товарищи были мне рады, некоторые завидовали ботинкам. Людмила Васильевна, увидев меня в коридоре, наклонилась и, коснувшись моего плеча, внимательно и серьезно заглянула мне в глаза.
– Ну, как дела?
– Здравствуйте, Людмила Васильевна, – сказал я. – Хорошо.
Когда класс расселся, Людмила Васильевна положила мне на парту мою тетрадь, которую я сдал на проверку, как мне показалось, давным-давно, в прошлой жизни или до рождения. Я открыл ее, густо покраснев, и не увидел там ничего, кроме своего сочинения, ничего, написанного красным: ни исправлений, ни оценки. Я поднял голову и вопросительно посмотрел на Людмилу Васильевну, но она не смотрела на меня. И все-таки, перелистывая классный журнал, она чему-то улыбалась, и мне хотелось думать, что она тоже сейчас думает обо мне, следит за мной внутренним взглядом.
Когда я пришел домой после уроков, мама попросила меня сходить на остановку за хлебом. Я знал, что не увижу Абакума, но я не увидел и старой сливы. У тропинки торчал пень, срез был еще свеж, земля и редкие пучки травы вокруг были присыпаны золотой древесной пылью. И как-то не верилось, что это то самое место.
Дома я достал из портфеля тетрадь с сочинением, еще раз покраснел и внимательно прочитал его от начала до конца. Сейчас мне хотелось посмотреть, не было ли в моем сочинении о сапожном ремесле чего-нибудь такого, что предвещало бы последовавшие за ним несчастья. Ничего такого я не увидел в содержании (хотя сознавал, что вполне заслужил наказания одним уже праздномыслием и кокетством, сквозившим в каждом предложении). Зато было очевидно, что грозное предостережение таилось в каждой отдельной букве, в каждой точке и запятой, в каждом нажиме и промахе нетвердой руки. Сочинение тоже было другим: каким-то чужим, незнакомым, и тетрадь обладала самостоятельностью, и мое имя на обложке тоже.
В эту минуту случилось со мной короткое и странное затмение (позже оно повторялось время от времени, но никогда так ярко): глядя на тетрадь, я вдруг забыл, где я нахожусь. То есть, я знал, что я был дома, сидел в нашей с Белкой комнате, – но я не помнил, как организовано пространство вокруг меня: какие предметы меня окружают и как они расположены, с какой стороны от меня дверь и с какой окно. Я не только не огляделся, но, наоборот, не поднимая головы, закрыл глаза. Я честно напрягался с минуту, прежде чем у меня получилось восстановить привычную картину.
Тогда я поднял голову, посмотрел и понял, что не только тетрадь, а все вокруг стало другим, все вещи стали вещими, и в каждом предмете был немного лукавый намек на нечто, невидимое и неведомое человеческому знанию.
Ещё ничто не говорило сердцу о тщете и скуке жизни.
Имя Григора Нарекаци я впервые услышал наяву спустя несколько лет.
Статьи из «Газета «Горцы»»
Аслан и Тарас
 7
7Новое дыхание Академии поэзии
 3
3Память рода
 5
5Погибший на Курской дуге
 5
5Лестница в небыль
 7
7Салихат – белая луна. Аварская сказка
 50
50 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 Более 65 процентов избирателей проголосовали в Дагестане
Более 65 процентов избирателей проголосовали в Дагестане