Зеркало
Помните грозный указ царя Петра I бить батогами того, кто говорит по писаному? Конечно же, государственных деятелей или дипломатов, читающих написанный текст, дабы не допустить досадной неточности, можно понять и простить – бывали случаи, когда вольные импровизации в их речах приводили к международным осложнениям. Но если литератор, чьим профессиональным орудием труда являются речь, язык, умение владеть им, и выступает перед аудиторией по листу, это воспринимается многими как нонсенс. И, наверное, правильно, хотя не все поэты и писатели умели читать свои даже блистательные шедевры. Не всем им хватало артистизма. Петровские батоги Расула, однако, никогда бы не достали.
В Москве в Центральном доме литераторов проводили вечер, посвященный юбилею Эффенди Капиева, человека незаурядного таланта и пронзительной мысли. С докладом должен был выступить Расул Гамзатов. И вот где-то минут за 10 до начала торжеств в фойе ЦДЛ появился он в сопровождении бессменного Асхаба Омаргаджи Шахтаманова и литературоведа Камала Абукова. Организаторы, приглашая Расула к столу президиума, буквально оттаскивали его от многочисленных земляков-дагестанцев, норовивших поздороваться с ним обязательно за руку.
И тут Расул повернулся к Омаргаджи и сказал;
– Давай мою папку.
Омаргаджи с надеждой оглянулся на Камала, но тот растерянно развел пустыми руками.
Короче, оказалось, что папка с юбилейным докладом, плодом многодневной работы, осталась на заднем сидении дежурной машины, вызванной из правительственного гаража, которая, как ей и полагается, ушла на очередной вызов. Найти машину в сколь-нибудь приемлемо короткий срок не представлялось возможным, а переполненный зал уже начал требовательно аплодировать.
Расул отрешенно махнул рукой на своих «благодетелей» и пошел на Голгофу…
Через 5 минут после восхождения докладчика на трибуну Омаргаджи откуда-то привел и посадил за стол секретаря под трибуной стенографистку и, самодовольно хлопая покрасневшими веками, уселся рядом с нами.
– Увидите, это даже хорошо, что мы забыли папку, – с заговорщицким видом прошептал он. – Смотрите, как он вошел в свою стихию! Слушайте, это совсем другой текст!
Действительно, Расул был в своей стихии. Его отношение к Эффенди Капиеву всегда отличалось душевностью и нежностью.
Он считал его своим учителем и гордился этим. Он защищал его от врагов прошлых лет и неприятелей нынешних, пытавшихся принизить значение его творчества для дагестанской литературы. Поэтому речь без писаного текста шла из глубины души, нарушая все правила ровного, выверенного по канонам доклада, где бывают и вступление, и основная часть, и соответствующая концовка.
Это был страстный монолог, ломаный и непоследовательный, состоящий из отдельных этюдов-фрагментов, как осколки разбитого нечаянно зеркала, требующего собрать их вместе, чтобы создать цельный образ – портрет. Так из обломков керамики воссоздают археологи прекрасные сосуды прошлого.
В 1943 году корреспондент фронтовой газеты Эффенди Капиев, попрощавшись с коллегами из дагестанских изданий, на террасе помещения редакции газеты произнес, а потом записал в дневнике: «О вечность! Я встречаю тебя на сумрачном мосту».
– На мосту я всегда и вижу Эффенди Капиева, – говорил Расул в тот памятный вечер. – Только не на сумрачном, а на мосту, озаренном светом его славы, построенном им самим, чтобы по нему вести поэтическую мысль Дагестана в широкий мир, в море великой русской культуры.
Вижу его на этом вечном капиевском мосту с протянутой вперед рукой и слышу его голос: «О великий русский язык! Стою перед тобою на коленях. Усынови и благослави меня, но не как приблудного, а как найденного сына. Радуюсь, торжествую и люблю… Родившись немощным и принадлежа к самому маленькому, затерянному в горах племени, я обрел тебя и ныне я не сирота. О, как могуча, как светла и задушевна твоя стихия!.. Без тебя нет и не было будущего, с тобою мы воистину всесильны…».
Речь эта, произнесенная на юбилее Эффенди Капиева, была потом издана отдельной брошюрой. Естественно, «осколки» были собраны и на «зеркале» не было никаких изъянов, искажающих портрет великого дагестанца. Омаргаджи считал себя причастным к созданию этого шедевра, а Камал Абуков иронично улыбался в ответ, отказываясь от лавров соавтора.
Деликатесы со всего света
Однажды я с Омаргаджи Шахтамановым пошел навестить Расула в «кремлевскую» больницу на улице Граневского. Больница режимная, на подступах приемный пост с людьми в погонах, очень вежливых и предусмотрительных, четко выполняющих предписания, – придраться просто не к чему. Можно только позавидовать их терпению и умению находить контакт со всеми ожидающими в очереди.
«Больше трех к одному больному нельзя!» – основное требование устава. Нас четверо. Двое идут, я и Омаргаджи ждем. Ждем более получаса и, от скуки переговариваясь, следим за происходящим вокруг. Из «предбанника», где мы разместились, видно, как в коридор откуда-то сверху выносят красивые, обвязанные голубым шнуром довольно крупные картонные ящики, за которыми подъезжают к зданию черные машины, как считает Омаргаджи, с кремлевскими номерами. В основном черные «Волги». Оттуда выходят здоровенные ребята, играючи хватают эти ящики и, уложив их в багажники, тут же уезжают. Создается впечатление, что здесь оптовый склад, откуда распределяется небольшими партиями какой-то товар…
Когда мы пришли в палату Расула, нас тут же навестила заведующая отделением, красивой наружности строгая женщина, и вежливо сказала, глядя на пакет, который мы принесли с собой в палату:
– Я вижу, вы интеллигентные люди, и надеюсь, что с собой, кроме фруктов, ничего такого, ну, такого горячительного, не занесли сюда, – и она оценивающе посмотрела на пакет с фруктами, где очень тщательно была припрятана бутылка коньяка.
– За кого вы нас принимаете?! – возмущенно отпарировал ее наезд Омаргаджи. – Мы, действительно, как вы заметили, интеллигентные люди, и ваши подозрения напрасны! Хотите, сами раскройте пакет?!
– Что вы, что вы! Я же сказала: я вам верю, – отступила завотделением. – Но вы знаете, как только к Расулу Гамзатовичу приходят посетители, у меня в отделении через несколько часов у всех пациентов поднимается давление. Это только предостережение…
И в это время, как по заказу, в палату Расула вошел такой же, как и он, пациент больницы, сосед по коридору отделения, именитый композитор, кумир молодежи Дмитрий Борисович Кабалевский. Вы, наверное, помните его радио– и телевыступления, как сейчас их нарекли бы, шоу классической музыки для юношества.
Это были передачи, потеря которых, как мне кажется, катастрофическим образом отразилась на общей музыкальной культуре страны, так как прекратилось воспитание подрастающего поколения на традициях классики. А заведующая отделением, доверив нас, может быть, самому интеллигентному и авторитетному ментору, покинула палату, уверенная, что с кровяным давлением пациентов на этаже всё будет в норме.
Но не тут-то было! Расул, несмотря на энергичные возражения Дмитрия Борисовича, предложил немедленно уничтожить улики из пакета, пока мы сохраняем доверие начальства. Сопротивление уже пожилого автора оперы «Кола Брюньон» было сломлено после упорного натиска, когда Расул сослался на идеальный образ Кола – человека в возрасте, но стройного, самоотверженного, мужественного и способного на юношеские проделки.
Улики были уничтожены быстро, а следы стёрты семенами гвоздики, которые бывают при мне, и началась, как всегда, обычная беседа. Улучив минуту и вспомнив о происходящих в «предбаннике» передачах картонных коробок, я неосторожно спросил:
– А что это за ящики – коробки, которые увозят отсюда? Здесь что склад какой-то?
Вначале воцарилось молчание. Потом очень осторожно, как мне показалось, но со знанием дела Дмитрий Борисович отрешенно сказал:
– Это же наш позор! Это, знаете ли, один из кремлевских пайков, которые получают определенные категории людей. Они, эти пайки, нескольких степеней. Здесь, наверное, третья или четвертая степень, потому что за пайками приходят сами «присужденные», но есть такие, кому привозят.
– И что там? – полюбопытствовал Омаргаджи возбужденно.
– Там деликатесы со всех концов света, – ответил Кабалевский, – вроде икры черной, икры красной, рыбы красной и белой, колбас копченых и напитков редчайших. В общем, всё, что считается редкостью и на Гавайях, и в Японии…
– А почему позор? – спросил вдруг Расул.
– Позор – все так считают, Расул, – заулыбался Кабалевский, – хотя я сам уже третий год добиваюсь этого позора.
– Добьешься – скажи мне, – засмеялся Расул, – будем позориться вместе.
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 В Махачкале ускорили замену лифтов в девятиэтажке по просьбе жильцов
В Махачкале ускорили замену лифтов в девятиэтажке по просьбе жильцов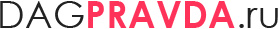





 21
21