Мир
Мир так зеркально-обезличен,
дельтообразно-многозвучен,
что невозможно тут без Линча
и поцарапанного Лучо.
Мир мозаично-лабиринтен,
и выходов, как звёзд на небе.
Что нам готовят Айвз и Бриттен,
Апостель, Шёнберг, Веллес, Веберн?
Мир музыкально-безобразен
и вечностью облагосподен.
Из недр сознанья лезет Разин,
сползает с неба Уистен Оден.
Мир — шахматная бесконечисть,
где шах—пат—мат — демонструозен.
Он обречён себя калечить,
преображая лето в осень.
Мир — необузданный ревнивец.
Да будет всякий — обессмерчен
по-всякому во всякой ниве,
под ураганами и в смерче.
Мой сад
Войди в мой сад и удивись цветам:
пионы, крокусы, тюльпаны…
наяды, нимфы, фавны, паны —
весь мир восшествует к вратам,
к художникам стального цвета,
к творцам неясного предмета,
к несуществующим страницам
несуществующих томов,
войди в мой сад — увидишь лица
и перламутры их умов.
Вот — райский сад воспоминаний,
искусства перечень миндальный:
тревог, утрат, гонений, зла…
меня природа вознесла
для бездн и нищих закоулков,
для бедняков, святых, придурков.
Вот, где расцвёл мой райский сад!
Там жизнь и прах, елей и смрад.
Новая эра
Конец воинственен. В начале было Слово.
И были чудеса. Был страх и свет.
Добро и зло соперничали. Злого
ни гения, ни мастера здесь нет.
Здесь пустота. Она дороже злата.
Она ценнее нефти и лесов.
Зеркальный звон. Звучание набата.
И Чёртов Мост. И чёрный ветер снов.
Здесь пустота воинственнее гнева.
И птицы улетают навсегда.
Здесь песни нет, и не было припева.
Здесь неба нет, не падает звезда.
Здесь всё в тумане и повсюду бисер.
Здесь романтизм соперничает с
постмодернизмом, что в сторонке писал.
Сюрреализм кричал ему: «не ссы».
Здесь всё в пыли, в рассерженной пучине,
здесь море негодует каждый год.
Здесь Моцарт пал и упадёт Пуччини,
и англосакс, и римлянин, и гот.
Здесь всё летит в очередную бездну.
Москва, Париж, Брюссель, Гаага, Рим,
Рейкьявик, Осло, Нюрнберг, Прага, Дрезден…
Звезда летит, и всюду мы горим.
Грустное стихотворение
Ницшеанское отчаянье повсюду.
Всюду мракобесие и злость.
Не Христос отпугивал Иуду…
Что желалось — злобно не сбылось.
Давит век прошедший на структуру
моего и мира бытия.
Кафку, превратившегося в Ктулху,
не забудет Родина моя.
Опьяненный правдами сухими
и жестокой ложью в три доски —
любодей, эпикуреец, схимник,
в общем, я — сгораю от тоски.
От тоски по вечности печальной.
Воля к вечности — отчаянье и боль.
Слышу, колокол стучит первоначальный.
По кому и по чему, изволь?..
* * *
Слова на исходе второго пришествья
сомкнулись в хрустально-эоловой башне.
И рушится мир без горящего шефства,
становится страньше, страшнее и старше.
И вырванный факт бессознательной желчи
впивает народ с историческим пылом.
Душа мировая становится мельче.
И всё безвозвратно с Хароном уплыло.
И всё бессознательно ищет покоя.
Не Смерти, но Вечности ищет сознанье.
Мессия исчез в светотени Изгоя
для будущих жертв, для великого Зданья.
И будущность ждёт безупречной утраты.
Всемирная Скорбь музыкально мертвея,
ускорила время для вечной расплаты.
И будут ресницы в крови у Морфея.
Родина
В эту ночь любить и могила могла…
В. Хлебников
Весь мир — театр, как говорит Шекспир.
Меняются спектакли, куклы, воды.
Изменчивостью полон этот мир,
и строятся, и рушатся заводы.
Меняются густые города.
«O tempera, o more» говорится.
Сегодня нам в безумье голодать,
а завтра пир — всё это повторится.
Изменчивостью дышит каждый миг.
Меняется и время, и движенье.
Но Родина на месте. Кто постиг
в отчаянье её отображенье?
Кто прочитал страницы пустоты,
страницы сожаленья, скорби, стона?
В её лице кто видел те мечты,
что катятся, как слёзы, с небосклона?
Весь мир — театр — трагедия во сне.
И драматург бумаги не жалеет,
как Чехов не жалел своё пенсне.
И чёрный парус за морем белеет.
И говорят, что Родина — тепло,
богато, сыто, пьяно, танцевально.
Но что тут говорить? Одно трепло.
Висят слова на дереве печально.
И виселицы всюду вешать вкус
намерены. Как Родину любили,
калмык и финн, татарин и тунгус,
и гордый внук славян! Теперь могилы
нам о любви всё больше говорят.
О той любви доподлинно известной.
И всё изменчиво, и брат уже не брат,
и человек — одно пустое место.
Таков итог сухого большинства
в эпоху верховода Капитала.
Шуршит печаль, как мокрая трава
от скорбных слёз, её земля впитала.
Громкая Смерть
Под собою не чувствую ног.
Над собою не чувствую рук.
Мандельштам то осилить не смог.
Я иссох, как последний урюк.
Я фонтан – без нытья и воды ль?..
Вещь в себе, леденея, дрожит.
Лопнул червь — предпоследний волдырь,
но остались в крови миражи.
Но осталась на сердце печаль,
что не смыть никакой суетой.
Алый парус — ты только причаль
к белым будням со скоростью той,
что равна круглолицему дню.
Отзывается всё в этом мире.
Революции в нашем меню.
Поскорей, Мандельштам, не томи.
Не развязывай узел причин,
ни к чему этот следственный хор.
Только надо молчать: «не кричи»,
то ли Мунку, то ль Смерти в упор.
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже
В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже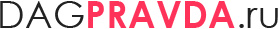





 29
29