В тот же миг дверь в комнату распахнулась – мать, как была с улицы в шапке и пальто, так и вбежала. Не раньше, не позже: будто чувствует, когда что-то случается. Ната закрыла глаза: она в домике, и спит, не приставайте.
– Доча, что случилось?
– Мама? Я не слышала, что ты вернулась. – Ната смотрела в потолок.
Настя повторила:
– Доча, что случилось?
– Телефон в рамку попал, стекло разбилось. Случайно.
На растерянный взгляд матери Ната поморщилась и промолчала.
Настя размотала шарф, сняла пальто, отнесла в прихожую. Подняла с пола телефон, включила и молча положила на кровать дочери. Приволокла из кладовки пылесос. Делать, а не думать. Этот девиз её второй год спасал. Лучи низкого зимнего солнца отражались от осколков стекла на полу, рассыпались радужными отблесками, играли на светлых стенах солнечными зайчиками.
В разбитой рамке – автопортрет дочери. Года полтора назад рисовала. Розовым и голубым карандашами тщательно выписанные завитки густых и длинных волос, полные губы, глубина яремной ямки.
Настя убралась, вытряхнула мусор в ведро, вернулась в комнату дочери. Та лежала, отвернувшись к стене.
– Пойдем обедать?
Ната усмехнулась:
– Пойдём. Помоги только на коляску пересесть, пожалуйста.
На кухне Настя молча разогрела борщ, разлила по тарелкам, добавила сметаны. Села напротив дочери.
– Ну, рассказывай, чего психуешь? Кто обидел?
– Да никто. Клава знаешь, что задала? Три портрета нарисовать. Свой, подруги, и третий, кого я сама хочу. К концу четверти. Переведи меня полностью в онлайн-школу. Там понимают. А в нашей треш. Ну, мам, молю тебя, – Ната шутливо прижала ладони друг к другу на уровне груди.
Настя зажмурилась, закрыла глаза. Да что ж это такое, чуть что и слёзы.
– Дочь, мы можем ужаться. Но откладывать не сможем. А вдруг, – и осеклась, и замолчала.
– Вдруг… Ладно. Закрыли тему.
– Нат, я поговорю с папой, решим. Давай десятый закончим? До конца четверти еще два месяца, сдай старые рисунки, твой портрет есть, кстати.
– Есть. Только на нём не я.
Настя взглянула на дочь: ёжик рыжих волос, белые искусанные губы, острые скулы и глаза – огромные, во все лицо. И взгляд взрослого человека. Некоторым за всю жизнь столько не достается, сколько ей за полтора года.
– Нарисуй себя сейчас. Ты же всё равно карандаши из рук не выпускаешь.
Ната задумчиво мешала ложкой суп:
– Вот такой? Лысой и тощей? И всей деревней будут меня обсуждать и жалеть? Спасибо за совет. А подругу? Может, Машку? Или из тех, старых? Которые через три месяца, как мы уехали, забыли, что вообще существую.
– Дочь, ты ж знаешь, людям трудно быть рядом, когда у человека горе какое или болеет он. – Настя «на автомате» говорила правильные слова, а про себя злилась: ну как можно быть такими равнодушными?
Ната усмехнулась:
– И зачем такие друзья? Знаешь, я иногда думаю, что Машка просто где-то далеко. Вот раньше можно было представить, что человек уехал и не пишет, ну забыл о тебе. Теперь это не получится. Она последний пост о том, как всё замечательно, в пять вечера выложила, а в два ночи её уже не было. И меня так же не будет. Всё останется, а меня не будет. Мам, не плачь. Ну прости меня. Пожалуйста.
Настя злилась на себя за эти слёзы. Мать должна быть опорой. Но как же хотелось болтать с дочкой о мальчиках, ругать за двойки и гулять вместе по магазинам. И волноваться, что на бюджет не поступит, вон как соседка о своей беспокоится.
Заговорила строго, чеканя каждое слово.
– Я не плачу. Это нервное. Ты ешь давай. Я к Клавдии Петровне зайду завтра. И не думай о плохом. Ты дома. Твоя задача пойти: уже февраль, а врач сказал, что к лету надо бы ходить. Ясно?
Ната кивнула:
– Пойти. Ему бы мышцы вырезать, и кость на железку заменить, посмотрела бы, как он ходит. Ну, извини, что разнылась. Не ходи к Клаве. Из-за пары по рисованию никто ещё не умирал. Машка всё просила, чтоб я её нарисовала. А я отказывалась – вот красивыми снова станем. Дура, да? Помнишь, как мы подружились? Ты её ещё в палату пускать не хотела.
Дочь заулыбалась, и Настя тоже выдохнула:
– Конечно, помню.
Первая госпитализация в областную больницу. Крошечная палата: дочкина кровать, слева узкий проход, серые тумбочки, напротив двери окно без штор. И яркое, бьющее по глазам, солнце. Ната лежала под капельницей, и Настя пристроилась рядом, на стуле. В дверь постучали.
– Да? – Настя встала, чтобы открыть: может замок защелкнулся? За это и от медсестер прилететь может.
За дверью стояла девочка-тростинка: короткий бледно–голубой халат, и глаза такие огромные и тоже бледно-голубые, и кожа с синеватыми прожилками. Лицо закрыто медицинской маской.
– Можно войти? – голос тонкий, звенящий.
– Зачем? По отделению нельзя гулять. – Настя потянула дверь на себя. Девочка неожиданно ловко просунула ногу в оставшуюся щель.
– Но к вам ещё можно. А мне уже можно. Мы с вами тут исключение из общего правила.
– Точно? –засомневалась Настя.
– Точно-точно. У кого хотите спросите. Я с вашей дочкой познакомиться хочу.
Настя посмотрела на дочь. Та кивнула.
– Ну входи пока. Но я все равно пойду у медсестры дежурной спрошу.
Маша тут же проскользнула в палату:
– Идите-идите, спрашивайте.
Как же Настя ей потом была благодарна. Маша всё переводила в шутку и в смех, даже смерть. Даже собственную смерть. Что удивительно в пятнадцать-то лет. А может в детстве не так это страшно? Может, наоборот, чем старше, тем крепче вцепляешься в жизнь?
Настя часто уходила из палаты, чтобы не мешать девчонкам. После второй химии у Наты полезли волосы, и их пришлось сбрить. Дочь рыдала, а Настя не знала, чем помочь и как успокоить: сказать, что они отрастут, что не в волосах счастье? Легко говорить, когда ты ничего не теряешь. С какой радостью она забрала бы боль дочери себе. Только никто не предлагал.
И тут пришла Машка:
– О, Ташка, да мы с тобой как сёстры теперь. Ещё вот румянец немного посгонишь, и вообще за однояйцевых сойдем.
Глупости кажется, но через три минуты они уже смеялись. И Настя шикала, что громко, что медсестра придет – ругаться будет. А потом Маша умерла. Иногда Настя спрашивала себя: может быть правильно было закрыть дверь до конца?
Сейчас она смотрела, как дочь ест суп: тщательно отцеживает бульон, мелкими глотками пьет его из ложки. Какое же счастье, когда ребёнок ест.
– А к Клавдии я все ж схожу, дочь. Придумает другое задание.
Ната тяжело вздохнула:
– Маа, ты танк–то выключи. Что ты ей скажешь: дочь больная – пожалейте? Не нужно ни с кем ругаться.
– Я и не собираюсь. И я не танк. Ты же знаешь, я никогда не кричу и не скандалю.
– Ага, знаю. Помнишь, ты губернатора из палаты выставила?
– Так ты ж у меня совсем без иммунитета была, с чем они там поздравляли, с каким новым годом. Да ещё придумали конфеты вручать. Лучше бы сэкономили и противорвотные нормальные закупили. Да и не выставляла я, попросила уйти. Вежливо, кстати.
– Мам, ну мам. Ну не сердись. Я ж просто посмеяться хотела. Ты прям как английская королева на него посмотрела, и ручкой так махнула, что он аж задом выпячиваться начал. Не злись. Всё ж прошло. Всё хорошо.
– Да, доча, всё хорошо. И ещё один вопрос. – Настя замялась.
– Да, мам? – Ната оторвалась от разглядывания лужиц жира в супе.
– Папа с тобой поговорить просил. Он хочет, чтобы мы все вместе пошли на День посёлка.
– Пошли? Я – пас, ходить не могу, в коляске не поеду. – Ната снова уставилась в тарелку.
– Смотри, я стою. Вот я села. Я что, от этого хуже стала?
– Ты – нет. Ты – можешь снова встать. Всё, мам, отстань. Отвези, пожалуйста, в комнату.
Настя привычно развернула коляску, в комнате переложила дочь на кровать, села рядом, уткнулась лицом ей в макушку:
– Ты удивительная, красивая, сильная. Доча, пойми, ты не сможешь постоянно прятаться.
Ната отвернулась к стене и закрыла глаза…
Алексей сквозь сон слышал голос жены: двадцать одна, двадцать две… Глаза никак не хотели открываться, и он до боли растёр их руками. В комнате темень, слышно, как в окна стучат ветки вишни – ветер. Если дождь принесёт, то Еловка совсем разольется и погреб затопит. Что-то нужно делать.
Снова жена:
– Сто двадцать… забыла, – и тихо бесслезно заплакала.
Осторожно потряс её за плечо:
– Милая, тсс, спи.
Она резко села на кровати, охрипшим спросонья голосом спросила:
– Что случилось? Ната?
– Нет, всё хорошо. Ты просто во сне разговаривала.
Настя облегченно вздохнула:
– Разбудила? Что на этот раз?
– Вот не понял: люблю, милый, хороший. Только не знаю, мне или нет, – он пытался шутить, видел, что не верит, но обняла:
– Тебе, конечно. Время сколько?
– Полпятого. Спи ещё.
Он сел, спустил ноги на пол, тут же от холода поджал пальцы и начал вслепую искать тапки.
– А ты куда?
– Пойду посмотрю, что на улице творится.
– Ничего в этой темени не увидишь. Ложись.
– Да подышу пойду. Душно что–то.
Жена отвернулась к стенке:
– Иди. Только Нату посмотри.
Он тихо вышел в коридор, заглянул в комнату дочки: под светом ночника её лицо казалось жёлтым, чёрные тени ясно обозначили резкость скул, худобу рук. В груди привычно затяжелело.
Натянул штаны, накинул куртку, сунул ноги в рыбацкие сапоги. Хороший костюм, легкий, и ветер не продувает. И сапоги хорошие. Настя с Наткой подарили на день рождения года два назад. Ещё до этого всего.
Влажный мартовский ветер попытался выдернуть дверь из рук, распахнуть её. Он не дал. Аккуратно притворил, тихо щелкнул замок. Сунул руки в карманы. Чёрт, ключ от дома забыл. Придется гулять, пока не проснутся.
Светало, оранжевые круги фонарей побледнели. Пошёл вниз по улице, к реке, которая подковой охватывала поселок. Еловка была ещё в берегах, но вода за ночь сильно прибыла и сейчас тревожно шумела, пытаясь выбраться, растечься свободным потоком.
Глубоко вздохнул. Свежо. Подумалось, что вообще-то всё хорошо. Все дома. А то, что жене кошмары до сих пор снятся, так пройдет. Вот дочь оклемается, и она тоже успокоится.
Да и Натке пора с людьми общаться. И ходить нужно начинать – вон протез для неё фонд из Англии аж выкупил, чтоб, значит, один раз поставить и больше не менять. Повезло. Такие деньжищи за всю жизнь не заработать. Алексей до сих пор помнил, как после слов врача: «Поставим то, что положено по ОМС, но ходить, вероятно, не сможет. И придется менять по мере роста» скрутило нутро от беспомощности. Это как же, это вот каждый год ей бы делали операции? И он – отец – ничего не мог сделать. Только просить. Оказалось, что это самое сложное из того, что он вообще в жизни делал. И на День посёлка он не просто так хотел её вытащить. Дочь, как приехали из больницы, только с ним, да с матерью всё. Бабке с дедом и то вход заказан. Говорила, что страшно, вдруг заразу какую подхватит. Потом только дошло, не заболеть она боялась, а жалости. И сама себя в тюрьме закрыла. Хотелось растормошить дочь, заставить жить. Алексей еще раз посмотрел на реку, на начинающее сереть небо, развернулся и медленно пошел к дому.
Насте не спалось. Встала, прошла на кухню. Взбила яйца с сахаром, налила в миску подогретого кефира, сыпанула муки. Привычные действия успокаивали. Открыла стеклянную колбочку с ванилином. Желтые масляные капли упали в тесто: одна, две, три, четыре, пять… Она как завороженная смотрела на них, очнулась, отдернула руку. Поставила миску на стол, сама села рядом на пол. Сил не было.
Завсхлипывала. И сразу же оборвала себя: в больницах она была сильной, и спокойной, и выгрызала, выбивала то, что считала необходимым. Но вернулась домой и всё. Расслабилась, наверное. Нельзя.
Тихий стук в дверь. Открыла.
– Извини, ключи забыл.
– Ничего страшного, – обняла, воткнулась лицом в куртку: пахло дождем, и весной, и свободой.
– Ты ревешь что ли? – муж чуть отстранился, посмотрел ей в лицо.
– Да нет. Всё хорошо. Идём на кухню, я блины доразведу. Пожаришь?
Хмыкнул:
– Конечно.
Пока муж раздевался и мыл руки, Настя успокоилась, раздышалась. Привычная тревога свернулась камнем где-то в солнечном сплетении.
– Ты понимаешь, я задвинула воспоминания куда-то глубоко, но сейчас… – она отвернулась к окну, прижала руки к животу. По тёмному стеклу змеились капли серебристой воды.
«Дождь. Последний снег съест. Ну точно Еловка из берегов выйдет», – подумалось Алексею, тут же заметил, что привычно забивает боль от слов жены круговоротом бессмысленной внутренней болтовни. Заставил себя её слушать. Через самое тяжелое его девочки проходили одни.
– Что сейчас? Рассказывай.
– Сейчас накатывает. Там было некогда переживать. Главным было Натке помочь. Как хорошо, что мы дома. Ты просто не представляешь.
– Что было-то? Ты расскажи. Легче станет. Вы женщины, как что случится, всегда пробалтываете это, – он отвернулся к плите и сосредоточенно тонкой струйкой наливал тесто на сковороду.
– Что делаем? «Пробалтываем»? Это как? – в голосе жены слышался смех, и Алексей улыбнулся. Она ж у него хохотушка, уж и забыл об этом.
– Ну с мамой там, с подругами проговорите, вам вроде и легче становится.
– Нет. С мамой нельзя. А подруги? У меня и подруг-то за это время и не осталось. Да и кто поймет? Девчонки из больницы? Так они и так всё знают. Ты ж не любишь бабскую болтовню.
– Так это не болтовня, – он снял со сковородки первый блин, щедро смазал растопленным сливочным маслом, повернулся к жене:
– Будешь?
– Ага.
В кухне пахло жареным тестом и сладостью. И домом. Полтора года он и не заходил сюда. И в спальню. И в Наткину комнату. Не мог. Спал в зале на диване, ел у матери.
Настя медленно жевала блин и разглядывала мужа. Вроде бы тот же, но нет: две глубокие вертикальные морщины на лице, их только на стариках и увидишь, а у него в сорок лет уже. И седой совсем стал.
Помолчала, затем продолжила:
– Ты знаешь, а рассказывать и нечего. Я полежать хочу.
– Да. Иди, полежи.
Настя свернулась в клубок под одеялом. Закрыла глаза. И вновь больница, и тихий шорох капель: кап, кап, кап. Так-то ничего страшного, пережилось же. Были и хуже дни: когда у Натки боль не могли ничем снять, когда её сутками рвало, когда Машка умерла.
А она вспоминает глупости какие-то. Первые месяцы в больнице: переполненное отделение, и вечную нехватку диффузоров – аппаратов, которые точно вводят нужное количество лекарства в кровь. И мамочки по очереди – кому не хватит – считали капли в капельницах сами. Чтобы не попало лишнего. Практически сутками. На вторые считаешь капли, когда спишь, и когда идёшь в туалет, и когда ешь. И не понимаешь, где реальность, а где глюк. Кто-то из активных родителей написал жалобу в областное минздравоохранение. Ответ пришёл на трёх листах, но его можно было свести к одному предложению: «всё вы врёте» и что–то об успокоении мамаш, чтобы не истерили. Да, неплохое средство от истерик. Их бы так. Кого «их», Настя не знала. Тех, кто отписывается не глядя, или тех, кто врёт, что всего хватает, или тех, кто считает, что тратить деньги на больных детей – это всё равно, что выбросить в урну.
Скрипнула дверь в спальню:
– Солнышко, вставай. Пора. Ты чего, снова ревёшь что ли?
– Нет. Всё хорошо, – сердце билось где-то в горле, она и не заметила, что плачет.
Ната слышала, как встал отец, и как ходила мама, но лежала тихо. Свет от фонаря за окном падал на рисунок, отражался от осколков разбитого стекла. Автопортрет. До болезни. Нет, его она сдавать не будет. А может и прав отец, хватит прятаться? Уже три месяца дома, а никого кроме родителей и не видела.
Ната протянула руку за голову, дернула шнурок, засветилась прикроватная лампа. Дотянулась до ходунков, вцепилась в холодный металл, начала тащить к себе, но они упали со страшенным грохотом. Сразу же в комнату вошёл отец, как будто ждал, что понадобится:
– Доча, помочь?
– Да. Хочу попробовать на ходунках дойти до туалета. Можно?
Отец растерялся.
– Можно. Я ж сколько тебя уговаривал.
На ходунках она сделала три шага, затем левая нога перестала слушаться и Ната бы упала, но её подхватил отец. Он, как в детстве, взял дочку на руки, и отнес в туалет. Прибежала мама. Родители старались, чтобы ей было удобно, и комфортно, и не стыдно. Но от их суетливости Ната ещё острее ощущала ущербность.
Мама ушла в магазин, отец уехал на работу, Ната осталась одна. До сдачи домашки по рисованию оставалось три дня. Разложила на уровне живота самодельный мольберт, прикрепила лист акварельной бумаги. Как же хорошо, что болезнь забрала не руки.
Простым карандашом наметила девичий профиль, и глаза, и острые мочки ушей – Машка вечно читала фэнтази – пусть будет эльфом.
К обеду мама вернулась. Суп был разогрет, Ната сидела на полу на кухне, рядом стояли ходунки. Это был не самый быстрый путь – полтора часа. Падала, вставала, делала очередной шажок. Вернулась в комнату тоже сама, хотя мама и беспрерывно порывалась помочь.
К вечеру портрет Маши был готов, пока в простом карандаше, Ната показала рисунок матери:
– Узнаешь?
– Маша. Красиво получилось. Портрет подруги?
– Да. Решила, что смерть не повод выбрасывать людей из списка друзей. Как думаешь, так оставить? Или цвета добавить?
– Не знаю. Мне и так нравится.
– Решено, оставлю в монохроме. Клаве сфоткаю, хватит ей.
– А остальные два?
– Ну, один рисунок ты – в образе танка, такая милитари-женщина, чур не обижаться. И мой новый автопортрет. В конце концов, я не стала хуже от того, что почти лысая и не могу ходить, а кто думает по-другому – его проблемы.
Настя молчала, боялась спугнуть дочь. Такой она была до болезни – пробивная, уверенная, а потом в ней будто что-то сломалось.
Ната упорно училась ходить – хотела сделать отцу сюрприз, понимала, что это только начало, но с каждым крошечным шагом как будто возвращалась к прежней себе, к той, что от каждого дня ждала только хорошего. Прежний круговорот мыслей – а Димка с Танькой встречаются, а Настька даже не позвонила, две смс — вот предел её дружбы, а вдруг бывшие одноклассники увидят и скажут, что она уродка? – стал отступать. Главное, что она выздоровела, она – победила, остальное – не важно.
На третью ночь Еловка разлилась, да так, что спрямила поворот и бурлящие мутные потоки понеслись по улицам посёлка. Они уносили дрова и плохо прибитые штакетины заборов, и детские игрушки, не убранные с осени. К утру вода спала.
Алексей долго расчищал от нанесенного ила и мусора дорожку к дому. Вытащил из сарая деревянные дорожки – всю зиму делал, постелил – от двери до калитки и от калитки до асфальтовой дороги. Соседи, родственники, знакомые соберутся на поселковой площади вместе. Так пусть сразу и увидят, и обсудят, и забудут. И жизнь вернется в привычное русло. Пусть не такая, как прежде, но тоже хорошая.
Счищая грязь, как зимой снег, по улице проехал трактор. После него по обочинам дороги остались груды ила и песка, перемешанные с ветками и ярким пластиковым мусором.
В доме Натка с Настей наводили красоту: укладывали волосы, красили губы и рисовали румянец. Скрипнула дверь, он оглянулся: на крыльце стояли его девочки. Подошёл, помог Нате спуститься со ступеней: она ещё не совсем освоила костыли, да и весеннее солнце слепило, отражаясь в лужах, в капели с крыш, в стеклах соседских домов. Воздух вибрировал от щебета воробьев.
Выйдя за калитку, Ната остановилась, закрыла глаза, глубоко вздохнула: пахло прелью, свежей травой и свободой. Тихо пошла. Рядом отец катил коляску – для подстраховки.
Папа улыбался, здоровался со всеми, с кем-то разговаривал. Одна только знакомая ляпнула:
– Ну что же, Наташенька, тяжело? Плохо ходят ноженьки-то?
Ната отвела взгляд, решила промолчать, но не смогла:
– Тяжело. Но без мозгов наверняка тяжелее, да, тёть Жень?
Мать тут же прошептала: «Ната, нельзя так». Женщина недовольно поджала губы, на лице читалось – ну не отвечать же инвалидке. Но тут отец добавил:
– Жень, что ты беспардонная такая, иди от нас, а?
И сам прибавил шагу.
От автора
Эта история не придумана, скорее, записана, сплетена из нескольких реальных. И у Наты есть прототип. Я бы хотела закончить на том, что Ната ходит и полностью победила болезнь, но приходится писать вот так: «Через три месяца после того, как она пошла, на плановой томографии «засветилась» правая нога – метастазы». Я верю, что и с Наткой, и с реальным героем всё будет хорошо. По-настоящему.
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 Ахтынский район получит новую систему водоснабжения к концу 2027 года
Ахтынский район получит новую систему водоснабжения к концу 2027 года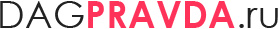





 44
44