Сейчас он сидел у окна гостиничного номера, смотрел вниз на заснеженную улицу незнакомого города, где ему предстояло дать еще два концерта, и бездумно вертел в руках пестрый камень-голыш с пляжа, подаренный пятилетней внучкой перед отъездом. До встречи с Анютой оставалось еще три недели, от кидания камешков на летнем пляже отделяли совершенно невероятные по протяженности месяцы, и делать подарки под Новый год было решительно некому. Ну не аккомпаниаторам же — Саше-большому и Саше-маленькому, которые обитали в соседнем номере и, судя по тому, что оттуда не слышалось ни гитары, ни баяна, наверное, спали. «Ночь предстоит новогодняя, пусть спят», — решил артист.
Работали вместе полгода. Как говорят актеры, работали новую программу: первое отделение — стихи Твардовского, второе — Есенина. «Василий Теркин» — с баяном, «Клен ты мой опавший» — с гитарой. От банальности этих сочетаний и всего того, что Бороздин называл «вторым сортом», спасали его требовательность, консерваторский вкус музыкантов и общая неприязнь всех троих к предприимчивым филармоническим администраторам. Те постоянно норовили сократить их программу и украсить ее то ли местными цыганами, то ли крепкими косматыми ребятами, игравшими на электрогитарах.
Но того, что предложил сегодня утром в филармонии «Витя в клеточку», как прозвали администратора за его шахматный пиджак оба языкастых Александра, слышать Бороздину еще не приходилось. Теребя его за пуговицу и поправляя бант, заменявший старому артисту галстук, Витя излагал практический взгляд на место искусства в жизни общества вообще и его филармонии в частности. После одного из телефонных звонков он задумчиво ответил в трубку: «Кажется, есть. Я тебе звякну…». Потом одарил Бороздина взглядом конского барышника и попросил его громко произнести фразу: «Здравствуйте, дети!»
«Здравствуйте, дети!» — ничего не понимая, сказал Николай Андреевич своим хорошо поставленным баритоном, и Витя остался доволен.
— А мешок с подарками вы поднимете, маэстро? — озабоченно поинтересовался он и, когда прозревший Бороздин возмущенно взмахнул рукой, упредил его:
— Ну кому нужен Есенин под Новый год? Я понимаю — великий лирик. И вы при нем… А тут вот у коллеги (Вите нравились специфические слова культурного обихода), понимаете, у коллеги в клубе, — он показал на телефонный аппарат, — увели Деда Мороза. Пять представлений — и пять тысяч ваши. А если со своими орлами-музыкантами, то и шесть… Я звоню… Ага? Только чтоб с хороводом…
Бороздин нахмурился, и Витя истолковал это по-своему:
— Ну семь, маэстро. И без хоровода… Это же хорошая халтурка. Сезон… Из отпущенных трубкой денег он решил оставить себе совсем уж крохи. Или вы думаете, что Есенин издавал стихи за спасибо? Как бы он тогда кормил Айседору?
Николай Андреевич не ждал от «Вити в клеточку» такой осведомленности. Он обиделся за Айседору Дункан, которая сама могла прокормить кого угодно, мрачно буркнул администратору: «Это не мой репертуар», и уже на лестнице пожалел, что оставил в гостинице свою трость. Несмотря на строгое домашнее воспитание и интеллигентность, он считал, что трость может иногда служить убедительным аргументом. Ох уж это остроумие на лестнице…
Сейчас, в номере, артист поискал трость взглядом и не нашел ее. Утреннее возмущение закипало в нем опять, и, чтобы разрядиться, он решил немедленно рассказать Александрам об утренней стычке с администратором.
***
В коридоре Бороздин застал знакомую дежурную по этажу за странным занятием: сидя за своей конторкой, она примеряла длинную шелковистую бороду из синтетики. Рядом на полу стояли огромные валенки, а через спинку стула был перекинут голубой атласный полушубок, отороченный мехом.
«Новая форма бытового обслуживания?» — прикинул Николай Андреевич и представил, как занятно преобразится гостиница, если в новогоднюю ночь все дежурные, администраторы, официанты нарядятся Снегурочками и Дедами Морозами. Обедал же он как-то в Болгарии в ресторане, где весь персонал изображал пиратов, глаз у метрдотеля был завязан черной лентой, и в ухе блестела серьга…
— У вас, судя по всему, карнавал? — спросил он весело у дежурной, отбросив мысль о причудах сервиса.
Немолодая женщина подняла от зеркала озабоченное лицо с нарумяненными, как у вятской игрушки щеками, и пожаловалась:
— Да какой там карнавал! Дед Мороз я на детском празднике, мать честная. В холле на шестом этаже елка. Все сотрудницы уже детей привели. А мужиков-то у нас — директор да слесарь. Вот мне и приходится… Ну что я им скажу?
— Спит под Новый год
Весь лесной народ.
Все соседи спят,
Все медведи спят,
— неожиданно гулким басом пропел Николай Андреевич, и дежурная, оторвавшись от зеркала, изумленно уставилась на него.
— Это монолог Волка из «Двенадцати месяцев», — пояснил, покашливая, артист. — Есть такая новогодняя сказка у Маршака. Очень моей внучке нравится …
— Там еще «Гори, гори ясно!» — радостно вспомнила женщина.
— Ну да, — отозвался Николай Андреевич, не сводя взгляда с бороды. — Чтобы не погасло. — И неожиданно спросил: — А мешок с подарками я подниму?
… Через несколько минут в костюме сказочного Деда он подходил к номеру музыкантов, решив, что самое время их будить. Уже в коридоре Николай Андреевич попросил их оставить в покое «Времена года» Чайковского и аккомпанировать ему попроще и повеселее.
Встречные постояльцы расступались и с улыбкой смотрели вслед живописной группе во главе с Дедом Морозом, шагавшим широко и бесшумно. Музыканты, шедшие следом, договаривались о чем-то на ходу, и аккорды баяна и гитары отзывались в коридорах и на лестнице громко, сочно и празднично. Замыкала шествие улыбающаяся женщина с нарумяненными щеками, несшая на спине мешок с подарками. Она простила удивительному старику из тридцатого номера и его веселым спутникам эту невнимательность, и мешок не казался ей тяжелым.
***
Система Станиславского не подвела и на этот раз. Когда Николай Андреевич вышел из-за елки и объявил, что дело происходит в заснеженном январском лесу, где братья-месяцы встречают бедную девочку, посланную мачехой за цветами, дети восторженно приняли правила игры и приготовились к чудесам. Их не удивляло, что Дед Мороз был на этот раз без Снегурочки и изображал поочередно волка и костер, братьев-месяцев и злую мачеху, зимний лес и королевскую стражу.
Николай Андреевич творил легко и прекрасно. Это была та самая редкая импровизация, к которой готовятся всю жизнь. Мягко и точно звучал за его спиной дуэт гитары и баяна, и краем сознания артист узнавал в музыке и мелодии Чайковского, и последние шлягеры, и размеренный ритм старинного менуэта. Наградой ему были не только горящие глазенки его маленьких зрителей и утихшая вдруг тоска по внучке, но и ободряющая улыбка Александра-первого, и заговорщическое подмигивание — второго. Праздник и без Анюты вдруг приобрел смысл, и артист понял, что в эту ночь, когда никому нельзя быть одиноким, он одиноким не будет.
… Падчерицу спасли общими усилиями, и она с полной корзиной цветов направилась в королевский дворец, хотя это и было немного не по пьесе.
— Ваше величество, — важно сказал Николай Андреевич сам себе, изображая одновременно и короля, и офицера стражи. — По вашему указу во дворец прибыли подснежники!
— Как? Сами прибыли? — капризно спросил король.
— Нет, их принесла маленькая девочка, — ответил с поклоном офицер.
— Зовите, зовите же ее скорее! — потребовал король, топнул ногой и нетерпеливо посмотрел на дверь зала.
Но, прежде чем оттуда появился Александр-второй, бегавший до этого по этажам в поисках настоящих цветов, в толпе родителей среди кофточек, свитеров, крахмальных передников и улыбающихся лиц Николай Андреевич вдруг четко выделил клетчатый пиджак филармонического администратора и его восхищенную физиономию. Всем своим видом Витя изображал укор («Ну что же вы, маэстро, скромничали? Не мой репертуар…», — мгновенно услышал про себя его голос Николай Андреевич) и готовность пожертвовать в ходе дальнейших переговоров заначенными было деньгами.
Окончание праздника и раздачу подарков артист провел с еще большим подъемом. В эти предновогодние часы, в эти минуты словно восстанавливались разорванные временем и отъездом связи, все странным образом становилось на свои места. Он играл в театре, смешном, маленьком, но театре, он заставил смеяться и радоваться не Анюту, но целый зал детворы и с облегчением поверил себе, что и ей сейчас тоже хорошо. И, наконец, он дарил подарки, и не только из мешка, который, еще и еще раз убеждаясь в своей силе, поднимал над полом легко и просто.
Еще час назад клетчатый пиджак мог повергнуть его в смятение и дать пищу для унылых размышлений на тему «Ах, куда мы все идем…». А сейчас Николай Андреевич прищурился, глянул на улыбающегося администратора одним глазом, словно прицелившись, и, пока в королевском дворце под баян и гитару продолжались танцы, поспешил к себе в номер. «Витя в клеточку» пятился перед ним в толпе, словно настоящему королю расчищая дорогу, и не заставил маэстро долго ждать.
…Когда через несколько минут распаренная дежурная, так и не стершая румян со щек, направлялась к тридцатому номеру, чтобы поблагодарить чудесного старика за праздник и пригласить встречать со всеми вместе Новый год, дверь номера с треском распахнулась и оттуда вылетел человек в клетчатом пиджаке… Повторяя: «Гори, гори ясно! Гори, гори ясно!», он на цыпочках пробежал мимо нее и скрылся в лифте.
Дежурная подумала, что ему очень уж понравилась новогодняя сказка у елки. Откуда же ей было знать, что артист все-таки вспомнил, где лежала его старинная трость.
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 В Махачкале ускорили замену лифтов в девятиэтажке по просьбе жильцов
В Махачкале ускорили замену лифтов в девятиэтажке по просьбе жильцов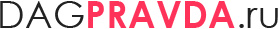





 3
3