Ноги её при этом имели пунцовый цвет, словно их долго вываривали в кипятке, а отёки как желе перекатывались от лодыжки к плюсне и обратно, пульсировали, вздувались и можно было подумать, что они живые.
Смотрела на них, шевелила пальцами и вспоминала, как раньше весной специально уходила в лес, знала одно место на опушке, где был большой муравейник, целый муравьиный вавилон, пристраивалась рядом с ним и засовывала в него ноги.
Особенно у Любови Алексеевны отекали ноги во время утренней, которую она отстаивала без движения, разве что кланяясь и крестясь, и когда приходило время подойти к Причастию, то совершенно не могла пошевелись ногами, которые словно бы прирастали к каменному полу, были прикованы к нему цепями.
Видела в этом знак, конечно, думала, что Предвечный Промыслитель не поверил её словам, сказанным на исповеди, прозрел ее потаенные мысли – корыстные и тщеславные, не счёл достойной причаститься Святых Таин Христовых и теперь подвергает её искупительным страданиям.
Инстинктивно она складывала руки на груди крестообразно, а из глаз у неё начинали течь слёзы.
– Ступай, Любушка, ну ступай же, – подталкивали её в спину матушки, которые гомонили при этом, насупливались круглыми, словно вылепленными из теста лбами и трясли подбородками.
И тогда она делала первый шаг, за ним следующий, была при этом уверена в том, что тащит за собой всю домовую церковь Марии и Магдалины при Вдовьем доме, что в Кудрине, а ноги ее гудели как Великопостный колокол над всей Кудринской округой.
После окончания утрени становилось немного легче.
Любовь Алексеевну усаживали, и она отдыхала, набиралась сил, чтобы дойти до своей палаты, расположенной этажом ниже домовой церкви.
Снова и снова мысленно возвращалась она к происходящему с ней всякий раз во время службы, а вернее, во время пения «Причастен», когда на неё наваливалась смертельная усталость, и ноги, налившись свинцом, уже и не принадлежали ей, а были словно исхищены демоном, подглядывающим за ней из-за левого плеча, да подслушивающим её крамольные думы.
Конечно, слышала, как одна из богомолок, пришедших в Кудрино прошлой зимой, рассказывала, будто видела, как две ноги переходили Яузу по льду.
Вертела головой: «Нет-нет, не может такого быть!».
Забинтовывала старательно, пеленала ноги, словно беспомощных младенцев, и чувствовала при этом, как тупая однообразная боль постепенно уходит куда-то в глубину. Не навсегда уходит, конечно, на время, чтобы потом опять вернуться, но сейчас от неё можно было отдохнуть и не видеть уродливых переплетений жил и вздувшихся желваков, венозных стоп и распухших пальцев.
Любовь Алексеевна не выносила вида всяческих уродств, боялась, что сможет заразиться ими, например, что у неё вырастет горб, потому что горбатым был истопник Вдовьего дома по фамилии Ремнев. Вдруг начнёт расти, незаметно так, нечувствительно, а поскольку происходить все это будет сзади, на спине, то она и не сразу его заметит, а когда заметит, то есть, ей скажут добрые люди, что у неё вырос горб, то уже будет поздно. Да и не просто горб, а горбище, целая гора, которую во время всенощной настоятель местного домового храма отец Ездра Плетнев назовёт Фавором.
И снова вертела головой, закрывала, а потом открывала глаза, трогала себя за лопатки: «Нет-нет, не может такого быть!».
Сейчас же Любовь Алексеевна наконец укладывает перевязанные ноги на тумбочку, что стоит у изголовья кровати, и, обращаясь к соседке по палате обер-офицерской вдове Марии Леонтьевне Сургучёвой, продолжает свой рассказ:
– Так вот, муравейник тут же весь и оживал, приходил в движение, можете ли себе представить, сотни, если не тысячи насекомых впивались в мои ножки, но я не чувствовала никакой боли совершенно, разве что покалывание, такое, знаете ли, незначительное покалывание, которое приходится испытывать, когда ненароком угодишь голыми руками в заросли молодой крапивы. Там, в недрах муравейника, происходила, разумеется, полнейшая катавасия, ведь вторжение моих ножек произошло столь неожиданно, столь дерзко, так сказать, что придало обитателям этого лесного вавилона особой ярости. Однако, повторюсь, укус муравья целебен при лечении артрита, отеков в том числе, и нездоровых сосудов. Муравьиная кислота также используется и для лечения некоторых нервных заболеваний, а мне, знаете ли, и нервы подлечить не помешает. Да-да, муравейник изрядно облегчал мои страдания. Тут ещё важен один момент – необходимо веточкой ли, платком смахивать мурашей, чтобы они не поднимались выше колен и не кусали там, где им кусать не положено…
Прерывает свой рассказ и заглядывает в лицо Сургучёвой, чтобы удостовериться, что она слушает её.
И что же она видит?
Простодушная Мария Леонтьевна только кивает в ответ, но при этом занята чем-то совершенно непотребным – скрутив из накрахмаленного угла простыни трубочку наподобие папиросы, она запихивает её себе поочередно то в левую, то в правую ноздрю.
– Что же это вы, матушка моя, такое изволите делать? – чуть не кричит Любовь Алексеевна.
– Так ведь, душа моя, – не отрываясь от своего занятия, отвечает Сургучёва, – любил мой супруг-покойник Павел Дмитриевич пользовать нюхательный табак, тоже, кстати, весьма и весьма полезный для здоровья.
Забинтованные ноги тут же и начинают колотиться на тумбочке культями.
Падают с неё на пол.
Вот так всегда происходило, когда она что-то говорила кому-то, вкладывала душу, рисовала картины яркие, убедительные, а её, как выяснялось потом, никто и не слушал вовсе. Видела в этом издевательство какое-то и глумление над собой. Однако всякое понесённое надругательство имело многие смыслы, в том числе и искупительные.
Любовь Алексеевна поднималась с кровати и подходила к окну.
Теперь уже и не скажет, когда оказалась здесь впервые, все перепуталось в голове, перемешалось, помнила только, что Сашеньке было четыре года в ту пору.
Их поселили тогда на первом этаже в каморке рядом с привратницкой с видом на пруд, за которым начинались владения Зоологического сада, и откуда часто доносились крики животных. Особенно по ночам это было невыносимо – хохот лис, вой осатаневших от неволи волков, крики сов, некоторые из которых порой залетали во двор Вдовьего дома, рассаживались чинно на скамейках, а также любили заглядывать в окна, в том числе и в то окно на первом этаже, где жила Любовь Алексеевна с сыном.
Любопытствовали разбойники.
Приставляла к стеклу бумажный образок великомученика Киприана и говорила шёпотом, чтобы не разбудить Сашу, «кыш-кыш», но совы не улетали, а с интересом всматривались своими жёлтыми, как газокалильные лампы, глазами в изображение седовласого бородатого человека, прижимавшего к груди толстую книгу, строили предположения при этом, вероятно, что могло бы быть в ней написано.
Любовь Алексеевна скороговоркой читала молитвы от нашествия демонов, от искушений бесовских, «Отче наш» неоднократно и, сама не понимая как, засыпала, уперевшись лбом в стекло и выронив бумажный образок на подоконник.
А вот на втором этаже Вдовьего дома были уже скошенные к полу подоконники, чтобы на них нельзя было взобраться и выброситься из окна.
Пыталась конечно и ни раз страдавшая нервным расстройством генеральша Телепнева добраться до латунных задвижек на оконных рамах, но всякий раз соскальзывала с подоконника и оказывалась на полу, заходясь в истошном крике.
Иногда Саша мог проснуться посреди ночи, сесть на кровати, на которой он спал вместе с матерью, и начать истошно кричать.
– Это все вы виноваты, – грозила Любовь Алексеевна кулаком сидящим за окном совам, что теснились и скреблись когтями по металлическому карнизу.
Хотя конечно никакие совы тут были не при чём, просто Сашеньке приснился сон про деревянную лошадку, о которой он мечтал, но у них не было денег, чтобы её купить…
Вот он ехал на ней по длинному больничному коридору, крепко держась за чёрную густую гриву, чтобы не свалиться на пол.
Лошадка поскрипывала и бежала всё быстрей и быстрей, а коридор всё не заканчивался и не заканчивался.
Саше становилось страшно, потому что он боялся, что они вместе с деревянной лошадкой ударятся со всего маху о стену и убьются, но этого не происходило, потому что с каждым новым шагом лошадки коридор удлинялся, а в самом конце его, почти на горизонте, вдруг начинало светиться окно. И Саша понимал, что там, за этим окном, находится улица, на которую маменька ему запрещала выходить одному, и на которую так стремилась вырваться деревянная лошадка…
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 В Буйнакске пожарные потушили двухэтажный жилой дом
В Буйнакске пожарные потушили двухэтажный жилой дом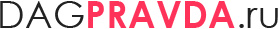





 26
26