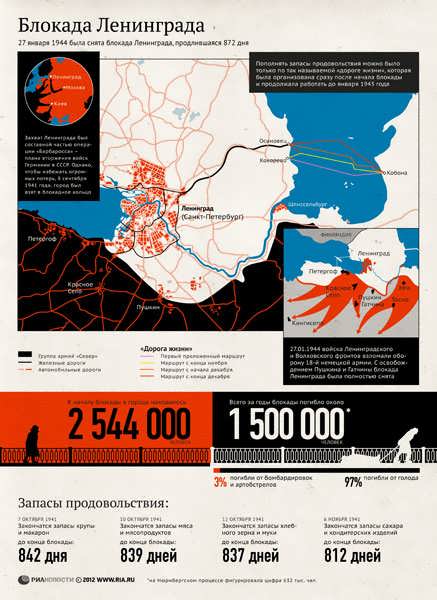Похоже, суть блокады — ее причины до сих пор не осмыслены. И точки зрения исследователей на эти факторы разнятся. Главный спор заключается в том, возможно ли было не допустить её. Одни — не только историки, но и сами блокадники — считают, что предотвратить возникновение этого адского острова было возможно, а другие исходят из мнения, что невозможно. Как говорится, у каждого своя правда. Но абсолютная правда, наверное, лежит где-то посередине. А когда докопаются до нее — вот что существенно!
Каждое мнение интересно и важно. Прежде всего, коснемся цифры — а сколько было блокадников? Официальная версия называет 1,5 млн. Однако с ней не согласен Вреж Арутюнян — военный историк, профессор военной академии тыла и транспорта, действительный член Российской академии наук. Он приводит другую цифру — 650 тысяч.
Все-таки интересен вопрос: а как возможно было не допустить блокады? Одни историки сходятся во мнении, что следовало бы сдать Ленинград, и не было бы этой бойни. С ними не согласны подполковник запаса, военный исследователь Юрий Лебедев и историк Алексей Исаев. Вот как комментирует последний: «Никак нельзя было сдать Ленинград — потому что портовый город и там было много важных коммуникаций». Примерно такого же мнения придерживаются и профессор истории Санкт-Петербургского университета Никита Ломакин и историк Юрий Колосов.
Советская военная история всегда твердила о страшном голоде среди блокадников. Но сегодня почему-то всплывают другие данные: мол, в Ленинград каждые сутки ввозили 1000 тонн продовольственных грузов. ходили с ума». Хотя данные разные можно сделать вывод отнюдь не экономический, а политический. А что блокадники голодали — это уже другая история. Поступающие продукты Ленинградский обком партии, где первым секретарем был Жданов, делил их по-своему. Это означало, что обкомовцы и прочая чиновная рать сначала себя обеспечивали продукцией сверхнормативно, а оставшуюся часть делили между блокадниками. Об этом заявляет литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. В результате этого и наступил страшный голод, среди блокадников началось людоедство, — подтверждает она.
Возникает другой вопрос: почему столь длительной была эта блокада? Здесь тоже нет ясного однозначного ответа. Одни историки ссылаются на объективные причины: мол, невозможно было раньше прорвать. Другие объясняют ситуацию провалами атак советских войск, тем, что немцы часто ускользали от их ударов. И приходят к такому выводу, что в тот период наше военное командование допустило много тактических и стратегических ошибок. Приводят такие цифры: под Ленинградом погибло 150 тысяч немцев, а наших — в 10 раз больше! А вот доктор исторических наук Михаил Фролов считает, что не было бы никакой блокады, если бы Ленинград не объявили фронтовым городом, – это, мол, политическая ошибка руководства страны.
В возникновении ленинградской блокады руководство страны обвиняют не только историки, но и писатели. Об этом свидетельствуют их произведения, где преобладают принципы документальности, а не художественный вымысел. Это «Блокадный Ленинград» Игоря Вишневецкого (ж. «Новый мир»), «Блок ада» Михаила Куваева (ж. «Знамя»). Кстати, Михаил Куваев сам был блокадником в юности. Виктор Астафьев в произведении «Прокляты и убиты» тоже критикует Политбюро и высшее военное командование.
В своих высказываниях о блокаде дальше всех пошли знаменитые писатели Андрей Битов и Михаил Веллер. Первый утверждает, что блокада есть результат идеологического штампа «город Ленина должен выдержать все трудности». Второй констатирует, что блокадным был и Сталинград — тоже как идеологический символ: «город Сталина должен преодолеть все тяготы и лишения». И Андрей Битов, и Михаил Веллер доказывают, что были возможности вывезти людей из Ленинграда и Сталинграда, но власти этого не сделали специально. Михаил Веллер пишет, что жителям Сталинграда даже не давали возможности перебираться на противоположный берег Волги — таких расстреливали.
Литературный критик Наталья Иванова выражает недовольство тем, что историческая суть блокады нагло искажается в кино и театре — умышленно сглаживают острые углы. Она предлагает, чтобы кино и театр обращали особое внимание на «солдатскую» прозу, «лейтенантскую» и т.д., где война осмыслена с разных точек зрения. Оказывается, у наших военных пищевые пайки были разные: зависели от звания: солдаты получали низкокалорийные пайки, а генералы самые лучшие. В немецкой же армии и генерал, и солдат питались равноценно. Для ныне живущих и новых поколений нужна доподлинная история этого жестокого «блока ада», как выразился писатель Михаил Куваев.
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 В Дагестанских Огнях задержана выдача пенсий из-за хищения на почте
В Дагестанских Огнях задержана выдача пенсий из-за хищения на почте





 53
53