Послышались глухие шаги и смутный говорок, наверное, какие-то люди шли по тропинке. Тубуш вскинул голову, с интересом поглядел в ту сторону. Вскоре показался Васил с тяжёлой вязанкой дров за спиной. Согнувшись почти вдвое, он шагал себе в одиночестве и кого-то походя материл, отводя душу. А сбоку кралась его горбатая тень. Васил был невелик ростом, невзрачен, и походка его, когда он без этих дров, смешная, не поймёшь, то ли петух у него перенял важную, дутую осанку и поступь, то ли он у петуха. Ещё он очень ловко и пронзительно умел свистеть в два пальца, распугивая собак. Но Тубуш давно привык и не боялся.
– Гав! – теперь как бы нарочно подал он голос. – Гав-гав!
Васил остановился, с грохотом сбросил вязанку и, засунув пальцы в рот, лихо засвистал…
Где-то вдалеке залаяли собаки. Тубуш даже не шелохнулся. Только шумно, с подвывом, зевнул.
– Эй, молодец среди овец, ты, что ль? – весело спросил Васил. – Ну, где ты там, покажись?
– Гав,– лениво отозвался пёс из-под дерева. – Гав-гав.
– Гляди-ка, и собака не считается со мной! – возмутился Васил, и на его заросшем дикой щетиной лице застыло удивлённое выражение. – Клянусь этим небом: сейчас разделаюсь с тобой! Бродяга ты этакий!..
Он нагнулся, подобрал подвернувшийся гибкий прут, и Тубуш вскочил, загодя отбежал в сторонку. Какое-то мгновение они стояли, человек и собака, но человек неожиданно скорчил гримасу и, показав собаке язык, засмеялся. Странно так засмеялся, потом развернулся и со всего маху полоснул свою тень прутом, немножко потоптался и ещё сильнее стеганул. После, отбросив прут, поплевал в ладоши и, раскорячив ноги, взвалил вязанку на спину, переломился в пояснице и пошёл своей дорогой, по-прежнему сквернословя.
Тубуш встряхнулся всем телом и, точно вспомнив что-то неотложное, сорвался с места и привычной, знакомой до мелочей тропкой заспешил куда-то. Крепкий, матёрый пёс грязно-рыжего окраса, ростом с хорошую овчарку, с большой лобастой головой, он двигался так бесшумно, словно стал бесплотным. Теперь он бежал стремительной рысью, и на краешке его старой памяти то вспыхивали, то гасли, мерцали какие-то давно позабытые, яркие, красочные картинки, и робкая, пугливая радость прыгала в груди. Вдруг он резко сбавил шаг и остановился, вывалив язык. Перед ним исходила паром свежая коровья лепёха. Он деловито обошёл, обнюхал её и устремился дальше.
Он долго так бежал и наконец оказался на шоссе, или, как называли сельчане по старинке, на почтовый тракт, с обеих сторон обсаженный вековыми ореховыми деревьями. Конечно, не за орехами он сюда спешил, да и не было уже никаких орехов: все деревья вчистую обобрали, обтрясли ветка за веткой и всё унесли люди. Не останавливаясь, Тубуш пустился по тракту, стуча когтями по твёрдому асфальту, и, пробежав ещё с километр, пёс встал, вконец усталый: он запыхался, с губ капала слюна. Он каждое утро выбегал на это шоссе, памятуя, что по нему уехали хозяева: выйдет, пробежится, как бы норовя догнать прошлое, стоит, уставится вдаль и смотрит, смотрит…
– Кар-р! – крикнула ворона, и Тубуш вздрогнул. – Кар-р!
На дороге валялась убитая ворона – видно, сшибла машина, – а вторая всё крутилась около: то на неё, на мёртвую, становилась, то спрыгивала, носилась вокруг. И всё кричала:
– Кар-р! Кар-р! Кар-р!..
Тубуш недолго и как бы с удивлением поглядел на ворон, сошёл с тракта, облюбовал лохматые заросли ежевики, лишь самую малость побитые осенней пежиной, забился в их сумеречное укромье и вытянулся в сладостной полудрёме…
Ему шёл тогда всего шестой месяц. Стояло ясное, солнечное лето.
Во дворе кудахтали куры, чирикали воробьи, курлыкали индюшки.
Хозяева хлопотали в огороде. Всё кругом текло спокойно, но что-то тревожное таилось в воздухе. И он маялся, не находя себе места, носился по двору, ожидая какой-то каверзы от беспечного дня.
И вот внезапно яркий день померк, угрожающе мрачнея с каждой минутой. Стало душно, почти нечем дышать. И вдруг блеснула молния, зарокотал гром, вслед за тем над головой страшно треснуло, казалось, небо разлетелось на куски, огненный свет больно ударил по глазам – и на землю обрушился град с ветром, расшугав всё живое: домашняя птица, хлопая крыльями, разметалась по своим укрытиям; люди с криком-смехом забежали под кровлю летней кухни. А у него от испуга подкосились ноги, он на мгновение замешкался, ошалев от безумья, осел под розовым кустом, потом опомнился и, суматошно взлаивая, заскочил к людям.
– Ой-ой-ой! – визгливо закричала хозяйка. – Все побьёт в огороде, всё! Пропали наши труды! Ну-ка, подай сюда одну! – велела она сыну. – Живо!..
Мальчик протянул руку, подобрал крупную, с добрую орешину, градину, поднёс матери, и та, шустро, с весёлой ловкостью установив ледышку на стол, сжала её двумя пальцами и рассекла ножом.
– Сейчас перестанет! – сказала громко, перекрикивая обвальный шум стихии. – Ещё бабка моя так делала: разрежет пополам – и всё!..
Град и вправду скоро прекратился, и сразу выглянуло солнце – и всё вокруг заблестело, засверкало. Град начал быстро таять, журчащими потоками стекая в речку за домом. Фруктовые деревья стояли побитые, сильно растрёпанные. И отовсюду чмокали тяжёлые капли…
По шоссе с гулом проехал грузовик. Тубуш открыл глаза, сквозь сплетение колючек глянул в небо. Солнечный луч щекотнул ноздрю – и он чихнул, вспугнув ящерицу, шмыгнувшую по сухолистью. Он встал, с шорохом выбрался из зарослей и крепко потянулся. Рядом покоился громоздкий камень, наполовину обросший мхом, Тубуш подошёл, обнюхал его со всех сторон и, задрав ногу, окропил.
Надо было возвращаться в село, но его мучила жажда, и он чуток постоял, свесив голову, и его скукоженная тень замерла подле. Он решился в конце концов и помчался к лесному родничку. Однако по пути встретил единственную во всей округе соловую лошадь с золотистыми хвостом и гривой и с любопытством застыл на месте. Сдвуноженная лошадь паслась на маленькой поляне, и при каждом скоке железная цепь на передних ногах звонко гремела.
– Хруп-хруп-хруп,– щипала она позднюю жестковатую траву. – Хруп-хруп-хруп.
Изредка лошадь поднимала голову, стояла и чутко двигала ушами, прислушиваясь к окружающей тишине. И это походило на то, как если бы ей грозила опасность и она хотела определить, откуда. Собаку лошадь видела и не боялась её, поскольку знакомы они давно и у них сложились вполне доверчивые отношения.
Лесной родничок точно уснул под плотным слоем жёлто-багряной палой листвы. Тубуш воровато поозирался, остерегаясь, как бы не увидели люди, раскидал лапой листья и, опустив морду, начал спешно и шумно лакать. Сзади хрустнула ветка, он стремглав кинулся прочь, затаился.
Из чащобы выбрел старый охотник дядюшка Тумас и, подойдя к родничку, снял с плеча ружьё, бережно прислонил к деревцу и долго нагибался, с трудом, постанывая, складывался худощавым телом, устраивал поудобнее острые колени, руками ухватился за края бочажины и припал лицом к воде. Потом он так же долго и трудно поднимался и, утерев лицо рукавом, перекрестился, вслух выразив своё наслаждение:
– Ох-ха-ай!..
Тубуш лежал средь безмолвия усадьбы и лениво водил головой по сторонам. То ли он, старея, постепенно утрачивал нюх и слух, то ли ещё что, но многие прежние ощущения нынче казались не такими, как раньше. Вон там, к примеру, в той угловой комнате на первом этаже хозяева каждое лето выращивали шелковичных червей. Как много ели эти черви, с каким беспрестанным шорохом днём и ночью поглощали тутовые листья, и как густо, как невыносимо, как затхло пахло оттуда. А то случалось по весне: лежа под кустом розы, Тубуш слышал, как с глухим шумом вверх по колючим суставчатым стебелькам подымаются соки и как наливаются, набухают, всё твердея, тугие бутоны и на рассвете, с хрустом лопаясь, распускаются, с еле уловимым шелестом раскрывают лепестки первым лучам солнца.
А с каким тихим потрескиваньем остывали оседающие угли в печи-тарыне, когда хозяйка пекла лепёшки, а заодно и тяжёлые, увесистые ломти постной свинины пришлёпывала к раскалённой стенке тарына. А рядышком, на длинном дощатом столе, солёная брынза на тарелочке, графин мутно-жёлтого вина, пара стаканов и тут же молодые хозяева в весёлом, шумливом ожидании. Сам хозяин трудится у верстака, не отвлекаясь, орудует рубанком, выгоняя золотистую кудрявую стружку: у него срочный заказ, он ведь плотник, он кому-то делает окна и двери, с детства только и делал, что махал топором, водил рубанком, пилой, фуганком, и кисть его правой руки намного больше кисти левой. Случается, конечно, хозяин закуривает сигарету и, присев на корточки, негнущимися, грубыми пальцами треплет Тубуша по ушам, и тот млеет от удовольствия, жмуря глаза, молотит хвостом…
Соседи подтащили стол к грушевому дереву. На стол установили табурет. Сосед взобрался, взгромоздился на него и длинным шестом с полой лёгкой тыковкой на конце начал срывать груши с отдалённых веток. И всё это неторопливо, бережно, по одной груше, а иная из них весит с полкило и, если сорвётся, разлетится на мелкие кусочки, и это надолго, наверное, не скоро сядут обедать, и прокормиться изо дня в день всё труднее и труднее. Из девяти ближайших домов – лишь в одном жили люди, остальные пустовали. Впрочем, ещё в один – поселились чужаки. Тяжёлая, постылая настала жизнь, порой невыносимая, и, может, он жив-то пока только потому, что у него есть прошлое.
Тубуш встал и понуро поплёлся к чужакам. Но у речки за домом навострил уши. На мостике крутился подросток из пришлой семьи. Он так ловко запускал плоские камушки, что те дважды, трижды подпрыгивали на поверхности воды. Но он мог и в него запустить. Тубуш не доверял подросткам, тем более малознакомым, никогда не знаешь, чего от них ждать. Он свернул с тропинки, перешёл мелкую и тихую речку вброд, приблизился к дому. Посреди двора на бельевой верёвке проветривался цветастый матрас, и по всей округе разносился застарелый запах ночной слабости подростка. По веранде молочный телёночек перебирал мягкими ещё копытцами. У крыльца глупо и одиноко суетилась лысая цесарка. Мать подростка сидела на ступеньке лестницы, неспешно лущила фасоль. Тубуш коротко взвыл. Женщина подняла голову.
– А ит, гет бурдан! – сказала, как всегда, на чужом наречье.– Собака, иди отсюда!
Тубуш смотрел прямо ей в глаза. Издали, от собачьей конуры, жалобно заскулила бело-пегая сучка. Тубуш едва взглянул на неё, и на миг вспыхнуло и погасло какое-то прозрение.
– Сэнэ демирэм – гет бурдан! – строже сказала женщина.– Не тебе говорю: иди отсюда!
Тубуш терпеливо ждал.
– Рэд ол бурдан – сэнэ деиллэр! – прикрикнула женщина.– Мотай отсюда – тебе говорят!
Тубуш её не боялся, он не ожидал от неё зла – и, однако, ошибся: женщина встала, подхватила очажные щипцы и швырнула в него. Щипцы пролетели мимо, и он попятился к калитке. А женщина, точно забыв про него, вытянула из плетня сухую хворостину для затопки: она собиралась развести огонь меж двумя закопчёнными камнями. Она тайком от мужа разоряла плетень, но муж всё же услышал характерный треск, вышел из комнаты с недопитым чаем в руке, и у них завязалась перебранка.
Из конуры вновь заскулила сучка. Она томилась на цепи, и… пришёл-то он, оказывается, только к ней. Он знал её с весны… – цвела белая акация, одуряюще-сладким духом заглушая все остальные запахи, и вся гудела от пчёл, и он видел её глаза, полные влаги, её нежные ноздри, трепетавшие в волненье, её слегка раскрытую пасть и розовый язык промеж жёлтых клыков…
– Нэ япышмысан?..– Женщина изловчилась и достала его хворостиной.– Чего ты повадился?..
Тубуш отскочил в сторонку и только раз гавкнул, но делать нечего – угрюмо заковылял обратно. Подросток ушёл с мостика, но рядом, над речкой, росла небольшая округлая ива, сплошь обвитая всё ещё зелёными сочными лохмами. И там кто-то скрывался.
– Гав! – как бы требовательно подал голос Тубуш.– Гав-гав!..
Подросток высунулся из укрытия и, глядя на пса, приложил палец к губам – дескать, молчи. Его с телячьей поволокой большие глаза сияли какой-то шкодливой тайной. Тубуш перешёл мостик, не выпуская его из поля зрения. Пришёл к себе во двор и увидел, что сосед по-прежнему торчит на табурете. Жена его стояла возле стола – принимала и складывала груши в плетёную корзину. Их юная дочь в кургузом платьице, скорее всего и воспалившей воображенье подростка, сидя на корточках, с рук кормила поздний выводок индюшат размоченным хлебом.
Всё шло своим чередом. Сосед целился шестом в одинокую грушу на кончике ветки. Жена следила за его движениями. Ивовые космы шевелились – подросток следил за девушкой. Тубуш в свою очередь следил за подростком. А девушка поминутно вставала с корточек и следила за дорогой. Индюшата в это время следили за её руками и беспрерывно пищали.
По дороге неспешно, взявшись за руки, шли парень с девушкой.
– Кто это там? – спросил муж с табурета. – Вроде как чужие…
– Да какие чужие? – возразила жена. – Дядюшки Тумаса внук с женой. После такой-то страшной беды…
– Они ведь давно женаты – чего это как голубки разгуливают?
– А-а, всё же заметил, муженёк, как люди к жёнам относятся?
– Чем же ты недовольна? У тебя нет причин недовольство выражать – так я понимаю.
– Мам, а ты по любви выходила замуж? – ввернула дочь, оборвав пресноту пустячной перепалки.– Папа долго ухаживал за тобой?
– Да какое там!.. – усмехнулась мать.– Его родители пришли сватать – мои согласились. Вот и вся любовь. Неужто этого увальня на табурете можно было любить? Куда мои глаза глядели – не знаю.
Он тогда только вернулся из армии и привёз огромное, прямо сказочное приданое: две наколки на тыльных сторонах ладоней – на одной СЫН КАВКАЗА, на другой ЭХ, ЖИЗН, – без мягкого знака, заметь! У русских в этом слове мягкий знак бывает. Вон они, шрамы от них до сих пор красуются.
– Видали, какая грамотная – по-русски заговорила! – с насмешкой вставил муж. – Ничего не скажешь, готовая учительница, как и братец её. Но он больше на крестьянина смахивает.
– Да, мой брат – учитель, и если в нём больше крестьянского – значит, он хороший учитель. Вот что я тебе скажу, муж.
С шестом в руках он замер в недолгом раздумье.
– А я так понимаю,– сказал, – пора тебе захлопнуть хлеборезку.
– Правильно, затыкай мне рот! – взвилась жена. – Тебе всю жизнь нашёптывали про меня: она и такая, она и сякая, и ты верил, и житья мне не давал. Что ж, мне не привыкать, давай поноси, как и вся твоя родня поносила. Известно, впрочем, какие они сами. Не слепые – всё видим.
– Не вымещай на других своё дурное настроение. Имей совесть.
И она примолкла, держа руки под ярким цветастым передником, вся такая крутобёдрая, крутогрудая и крутоскулая. С чёрными завитками волос на висках.
– Эй, муж! – очень скоро встрепенулась она.– Не знаешь, кто айву запекает? А? Печёной айвой пахнет.
– Да откуда мне знать?! – возмутился он.– Айву какую-то выдумала. Кругом сплошные пустые дома – какая ещё тебе печёная айва?
Лучше б обедом занялась…
Они всё говорили, а Тубуш, разлёгшись под межевыми пряслами, подрёмывал, изредка открывая глаза и подмечая, что делается на соседской веранде: там девушка гремела посудой и пахло съестным. Девушка небольшого росточка, плотного, крепенького сложения. Она частенько заскакивала в комнату – то ли в зеркало гляделась, то ли на часы взглядывала – не поймёшь, и всё улыбалась, вся сияла, то и дело постреливая глазками на дорогу, и мать украдкой наблюдала за ней, и подросток в своём укрытии томился в горячечном волнении, и во всём этом крылась какая-то тайна.
– Кыш-кыш! Ты что это вздумала?.. – закричала мать, затопав ногами. – Раз курица закукарекала – жди несчастья.
По грунтовой дороге, вздымая жидкую осеннюю пыль, проехала легковая машина, и мать тотчас же, почти без паузы, сменила тему:
– Совсем недавно в развалюхе ютились – теперь шагу пешком не ступят. Гляди-ка, какими важными заделались – на автомобиле с тёмными стёклами разъезжают!
– Значит, сумел человек – вырвался из грязи, – рассудил муж. – Голова на плечах, значит, имеется – так я понимаю.
– Как же – вырвался! Говорят, по уши в долгах сидит. Да и что он за мужик – приличную уборную не сколотит в своём дворе, жена его, выйдя по нужде, на всё село сверкает…
– Зря ты так. Он бедный, но честный парень. Ничем таким не запятнал себя.
Женщина подумала и выложила готовенькое: мол, бедные дорожат честью так щепетильно потому, что, кроме чести, им терять-то больше нечего. И сказала ещё, задрав голову кверху:
– Муж, ответь мне на такой вопрос: у тебя есть большая, очень большая… ну, такая неисполнимая мечта?
Он долго не отвечал – похоже, силился и не мог вникнуть в суть сказанного женой. Он метнул на неё растерянный взгляд, и сросшиеся брови его, там, где они срастаются, на переносье, встопорщились жёстким, колючим пучком.
– Большая мечта? – переспросил он. – Да это… так я думаю…
– Так ты думаешь – да! – передразнила жена.– Что дальше? Тебе что в лоб, что по лбу – всё одно: «так я думаю». Разве это муж?..
– Попридержи язык! – осерчал он, и табурет под его ногами сыграл, взмахнув руками, он выронил шест, но чудом устоял, не полетел вниз и выговорил с укором:
– Вечно-то всех осуждаешь! Не по-людски это. Так мы скоро в этих… в новых наших соседей превратимся.
Да, она такая: ни себе, ни другим поблажки не даёт. Что же касается новых соседей – они-то своё дело хорошо знают: скоро всё село к рукам приберут.
Девушка сошла по ступенькам лестницы, неся громадную сковородку шваркающей на свином сале яичницы. Тубуш внутренне встрепенулся, но не сдвинулся с места.
– И этому бедолаге киньте чего-нибудь, – сказал муж, спрыгнув со стола и отряхиваясь. – Тубуш, поди-ка сюда. Ну!.. Смотри, встал и стоит. Не шелохнётся. Вот характерец!
– Он же боится тебя, папа, – сказала девушка. – Разве подойдёт?
– Чего это боится? Что я – изверг какой? Чего меня бояться-то?..
– А помнишь, как ты его пнул ногой?.. Целую неделю хромал.
– А нечего лезть куда не следует. Нашкодил – и получил своё.
– Дочка, и кислого молока из подвала принеси, – попросила мать.
– Как назло, и корова яловая бегает, чем будем кормиться весной?
– До весны ещё дожить надо,– сказал муж.– Так я понимаю. Эй, девка, и арбуз прихвати! – крикнул он дочери.– Во рту горечь одна.
Женщина застыла на месте, глядя на розвесь ивы над речкой, и вдруг сорвалась и побежала, и груди её под кофтой точно всбесились, так запрыгали, и Тубуш с весёлым лаем припустил следом.
– Куда это ты? – успел лишь сказать муж.– Что с тобой?
– Ах ты сукин сын! Ах ты тварь, гадина! – бежала жена и кричала: – Чтоб ты провалился сквозь землю со всем своим семейством!..
– Что это? – поспешая за ней, вопрошал муж. – Кто это, а?..
– Ты ещё спрашиваешь? – женщина обернулась. – Стоит, паршивец, в кустах – подглядывает! Я давно заметила: что-то шевелится там. Целыми днями, значит, стоит и подглядывает! Мы к ним – как к людям, а их щенок – дрянь, оказывается, сучье отродье!..
– Ладно, успокойся. Чего ты от них хочешь?
– Чего хочу? Чтоб прибрали к рукам щенка своего! Больше ничего! Сходи и поговори с его отцом. У нас во дворе девица на выданье. Я не позволю!.. Пусть накажет ублюдка своего!..
– Только-то? – усмехнулся муж. – Разве они люди? То скулят, то нос задирают. С ними не столкуешься.
Тубуш снова залился лаем, в полный голос, захлёбисто, и оба они, муж и жена, как один, затихли.
По дороге шёл путник. Издали было видно, что не свой, не сельчанин.
– Кто бы это мог быть?.. – в задумчивости промолвила жена.– Вроде, к нам идёт. Нет, к соседской калитке подошёл. Ну-ка, поди встреть.
Муж прикрикнул на пса, тяжело нагнувшись, пролез под пряслом, двинулся к калитке. Тубуш примолк и поодаль уселся на задние лапы, не спуская глаз с пришельца. Долгий путь, видимо, прошёл незнакомец: чёрные ботинки стали матово-белыми от мучнистой пыли. Он что-то сказал соседу. Тот что-то ответил. Так они стояли и долго о чём-то спорили.
– Что? – с тревогой спросила жена, когда муж вернулся к столу. – А? Ищет кого?..
Муж молча сел, подкатил к себе арбуз и, одним касаньем ножа развалив его, объяснил, что незнакомец просто поведал историю своих мытарств, мол, долго, слишком долго он с семьёй мается без крыши над головой и потому намерен заселиться в этот пустующий дом.
– А ты? Ты-то что?
– Что – я? Наплёл, что люди на заработки уехали, скоро приедут.
И нам велели за домом присмотреть.
– А он? Он-то что?
– Он сказал, что не верит мне, что всё равно вселится. И – всё.
– Ах ты боже мой! Беда-то какая! Что же теперь делать? Господи, трижды церковь твою на коленях… ползком обойду – только избавь!..
– Вот это я везунчик! – совсем близко раздался бодренький голосок. – Опять к обеду подоспел.
Девушка за столом вспыхнула: он всегда появлялся неслышно, даже пёс не облаивал его – давно привык.
– Ну, раз подоспел, – сказал отец, – стало быть, присаживайся.
Парень достал из кармана горсть жареных каштанов – ссыпал на стол перед девушкой. Губы той дёрнулись в улыбке, ресницы затрепетали, и она как-то особенно посмотрела на него, одетого во всё броское, модное.
– Как жизнь-то? – весело спросил парень. – А?
– Какая, к дьяволу, жизнь. Муки одни… – сказал отец.
Парень стоял и улыбался. У него были сияющие, слишком светлые глаза на смуглом, как бы обветренном лице. И маленькие, без мочек, суховатые уши. Ещё он любил часто стричься, благо отец работал парикмахером, и всегда ходил с аккуратной причёской. А на груди крестик с распятием красовался, даже не крестик – увесистый крест с очень выразительным, выпуклым распятием. Отец полюбопытствовал:
– Слушай, он у тебя что – золотой?
– Конечно… – рассмеялся парень. – Чего бы мне жестянку носить?
– Тяга к дорогим безделушкам и уменье одеваться – разные вещи, – неизвестно с чего заметила мать. – Надо знать место и время.
– То есть как это? – удивился парень и как бы оглядел себя со стороны. – Я что – плохо одет?
– Одни понимают жизнь как сплошные удовольствия, – вовсе с туманцем произнёс отец,– другие – как повседневные заботы…
– Не врублюсь никак, – пожал плечами парень и, сев за стол, утвердился локтями.– Крест как крест – сейчас многие носят.
– Что тут… врубаться? Ты выучился на учителя, а работаешь кем?
Что ты там, в клубе своём, делаешь? Я слыхал, к примеру, похабные фильмы крутишь…
– Кто это сказал? – взволновался парень. – Кто, а?
– Кто бы ни сказал, мне это не нравится. Понятно?
Парень лишь на секунду смешался – и тут же задиристо улыбнулся:
– То есть вы отсылаете меня куда подальше?
– То есть говорим,– в тон и весомо ответил отец,– что близок локоток, да не укусишь!
– Ладно, прекратите! – встряла мать. – Без вашей перепалки тошно.
Парень помолчал и как ни в чём не бывало предложил девушке:
– Пойдём сегодня в клуб – хороший концерт намечается? Пойдёшь?
– Нет,– сказала та, но глаза её обещающе блеснули.– Давай поднимемся наверх – что тебе покажу.
Отец тяжко вздохнул, встал из-за стола и увидел, что дядюшка Тумас возвращается с охоты. Ружьё закинул за спину, убитого зайца приторочил сбоку к поясу. Подойдя вплотную к ограде, тот хрипло окликнул:
– Эй, милый человек! Ты дашь мне попить или дальше пройти?
– Сейчас, дядюшка Тумас! – отозвался сосед. – Налью только. И вскоре поднёс старику красного вина в высоком тонком стакане.
– Нынешнее? – спросил тот, приблизив посуду к глазам.– Или…
– Нет, летошнее. С соседской веранды. Литров двести отжал.
Оба посмотрели на дом, с размахом построенный, просторный, двухэтажный, с широкой верандой, обвитой виноградом. Кое-где среди пегой осенней листвы уцелели мелкие тугие грозди. Они одновременно, словно сговорившись, вздохнули: грустную, тягостную картину представлял собой вид покинутого дома.
Старик молодцевато, хоть и с трудом, в три приёма опорожнил стакан.
– Может, ещё налить? Иль к столу пройдём?..
– К столу – если зажарим зайца…
– Нет, спасибо,– спешно отказался сосед. – Оставьте его себе.
Он только однажды слышал, как кричит, ревёт, что малое дитя, заяц-подранок, и не ел зайчатину, не мог.
Старик пытливо поглядел на пса.
– Всё удивляюсь – какая хорошая собака! – восхитился.– Смотришь и диву даёшься: откуда всё это в такой твари? Она ведь часто без цели бегает по тем тропам, по которым в своё время хозяин ходил. Умница такая.
– Тубуш всем нравится. Где свадьба, где поминки – он там, и все его привечают, кормят…
– Молодец! – подмигнул старик собаке. – Держи голову выше, парень, ты это заслужил!.. И не бойся никого…
– Он даже знаменитого свиста Васила не боится, – войдя во вкус, отметил сосед. – Все собаки врассыпную, а этому хоть бы что.
– Васил… да, совсем от рук отбился. Пьёт страшно. Распоясался – со всеми подряд схватывается. Как бы ни свихнулся. Ладно, пойду помаленьку. А то старуха беспокоиться начнёт.
Сосед в задумчивости поглядел старику вслед и вернулся к столу.
– Ну, что он? О чём говорил? – пристала жена с расспросами. – Узнал, как обстоят их дела?..
– Нет, не узнал. Видно, уладили всё. Шутка ли, всем селом деньги собирали…
– Меня что поражает: всё ходит по лесам, по полям, всё кружится, не боится. Могут ведь подстеречь – и отомстить. Странный он какой-то.
– Что ты хочешь – изъеденный временем старик.
Немного помолчали. Потом жена встала, навалилась грудью на стол и что-то шёпотом растолковала мужу.
– Это правда? – у него отвисла губа. – Точно знаешь?
– Да, к сожалению…
– Хочешь сказать…
– Да, муж. Да!
– Нет, не может быть!
– Может. Мать же я, всё подмечаю.
– Да сейчас я его!..
Жена торопливо обошла стол и положила руки на его плечи.
– Наплюй. Держи себя в руках.
– Как это – наплюй. Как теперь людям в глаза глядеть?
– Ничего. Всего лишь нашкодили до свадьбы. Потерпим…
– А как давеча со мной говорил. У самого рыльце в пушку…
– Тихо-тихо… Тсс! Идут.
Те спускались по лестнице. Дочь переоделась. В лёгком голубеньком сарафане на тоненьких бретельках она вышла на солнце, и сарафан её непристойно засквозил.
– А это зачем нацепила на себя? – раздражённо спросил отец.– Сбрось и эту тряпку – ступай нагишом. Чего теперь стесняться?
Руки дочери буквально рухнули вдоль тела.
– Что случилось, папа? – помолчав, сказала она притворно-наивным тоном. – Ты не раз видел этот сарафан – и ничего не говорил.
Он молча смотрел на неё. Она тоже замолчала. Глаза её светились влажным блеском, и в форме её пухлых губ, в том, как она часто открывала рот и водила языком по губам, отец углядел что-то неприятное. Очень неприятное и постыдное. Он сглотнул ком.
– Иди давай, бесстыжая, в дом – переоденься,– сказала мать. – Отец так хочет. Да и прохладно вечерком будет. Не лето.
Та с ленцой нехотя поднялась наверх.
– Гав,– вяло подал голос Тубуш. – Гав-гав.
У калитки стояла старуха – дальняя соседка, просила зарезать курицу. Парень враскачку, заложив руки в карманы брюк, подошёл, принял у неё птицу, но от ножа отказался: просто оторвал курице голову и отшвырнул прочь. Дочь вышла из комнаты всё в том же сарафане.
– Не буду переодеваться! – сказала. – В чём хочу, в том и хожу, я не малый ребёнок!
Мать с яростью подбежала к веранде и прямо зашипела:
– Покарай меня Бог, если не покалечу тебя! Будешь мне!..
Дочь в сердцах хлопнула дверью. А парень шагнул к груде дров, взял колун и с показной лихостью, с одного маху развалив дубовый чурбак, откинул колун в сторонку.
– Коль уж вылущилась правда, – сказал, – то честно признаюсь: если настаиваете, могу уйти, конечно…
– На-ка, выкуси! – оборвала его мать, не по-женски грубо сложив три пальца, и, подойдя к столу, взяла ломоть хлеба и сказала как отрезала: – Клянусь вот этим божьим даром: я уничтожу тебя, если осмелишься насмехаться!..
Тубуш с беспокойством заметил, что тени стали перемещаться, неумолимо удлиняться. Скоро сумерки совьют хрупкую, тревожную тишину над селом. Он плохо переносил эту пору суток и обычно по вечерам бродил от дома к дому. Соседи тоже убрались со двора.
Женщина без дела ходила по веранде и всё не могла успокоиться.
– Если б хоть была помолвлена, связана надёжным словом,– изливала она душу.– Сучка – в кого такая уродилась? Он-то, он! По пояс в грязи сидит, подлец, а кричит – не брызжи. Хвастает. Будь ты самым-рассамым, но, если начал жизнь со срама, не видать тебе счастья. Твой парикмахер отец разве для того выбривал с каждого лица по рублю – складывал рубль к рублю, чтобы выучить тебя, вывести в люди, разве для того?..
– Э-э, да перестань ты, хватит! – донёсся из подвала недовольный голос мужа. Он там аккуратно укладывал груши на полки, каждую отдельно обкладывая золотистой шуршащей соломой. – Без твоих слов всё ясно. Вовек не отмыться нам.
Делать нечего – Тубуш пустился в глубь села. Пробежал ближайшие пустующие дома, равнодушной торопцой проскочил мимо галдящих у родника женщин, нырнул по отлогому склону в овражек и, резво, не сбавляя хода, взойдя наверх, оцепенел у окрашенных в синий цвет ворот. Там стояла красная машина, тщательно отмытая, блестела влажным глянцем. Хозяин поднял капот и задумчиво склонился над мотором, ни к чему не притрагиваясь.
Раньше он числился в больших начальниках, теперь нигде не работал, хотя по-прежнему рядился в костюм и галстук, выезжал на своём автомобиле в центр, на сельскую площадь, стоял среди людей и молчал, всё время молчал с таким видом, словно знал нечто важное о жизни и таил ото всех. А на самом деле жил себе замкнуто, мрачно изнемогая от благополучия – громадный дом, что полная чаша, и дети все пристроены по разным городам, и двор обнесён высокой оградой из речного булыжника, и железные ворота всегда на запоре – не сунешься.
А в другом дворе весьма и весьма довольный, счастливый до одури человек развалился в гамаке, подвешенном меж двумя яблонями, раскачивается потихоньку, явно наслаждаясь тем, как молодая женщина, вся такая ладная, мягкая, располневшая в замужестве, хлопочет по хозяйству. Подол её зелёного платья тяжело намок от плеснувшей из ведра воды, и это очень волнует его, и время от времени он бормочет себе под нос:
– Что может быть лучше, а? Что может быть лучше!..
Тубуш пустился дальше, проскочил ещё несколько пустующих домов и остановился возле двора, где яблоки зимних сортов, как исстари заведено в селе, целой горкой складывали на высокую тахту под открытым небом и укрывали плотным слоем папоротника – так они хранятся долго, вплоть до следующей весны.
А за тем дощатым забором с завистью в тоне рассуждали:
– Они живут-то исключительно для того, чтобы жрать. Видел бы ты, за какой богатый стол садятся. Рассказать – не поверишь. Может, поедем? Этого попрошу…
– Как же, жди – он тебя отвезёт! Он у родной матери всю жизнь денежки брал, подвозя в райцентр.
– Брось ты, он ещё малой капелькой висел на кончике отца, я уже на машинах разъезжал – неужели откажет?..
А дядюшка Тумас возился в коровнике и шепелявил со своей старухой – верно, вынул изо рта протезы – и губы запали.
И ещё в одном подворье:
– Кто ж виноват – что у тебя детей целая куча? После твоей свадьбы ещё собаки не успели все тарелки облизать – у тебя уже трое было. На что надеялся?..
И ещё в одном:
– Люди, приезжавшие из города работать на завод или в школу, люди чужой национальности, как правило, оставались навсегда. Вот какое было село!..
Правда, совсем недавно хорошее было село. Старое, древнее и большое: тут тебе и юг, и север, и восток, и запад. На юге, скажем, свой говор, свои шутки-подначки, на севере – свои. Бывало, на западе шёл дождь, а на востоке солнце светило как новенькое. Огромное было село, и стояло оно в долине среди гор, тысячи лет стояло на этом месте, в этой котловине. Для сравнения: вообрази маленький родничок на дне оврага, что не однажды разлетался под копытом коня неприятеля, потом долго и трудно, капля по капле, стекался обратно.
А этот безмолвный, заброшенный, мёртвый дом раньше был многосемейным, раньше от детского гомона он гудел как улей, и, как матка в улье, всегда сидела среди детей их бабушка, девяностолетняя, но бодрая ещё старуха. Где-то они сейчас?..
А Васил опять вернулся домой пьяным. Шатаясь, поднялся на веранду, включил электричество и, отшвырнув ногой кошку, своей неизменно важной, дутой походкой подошёл к зеркалу и, проведя ладонью по недельной щетине, вдруг всей пятернёй ударил себя по щеке и сказал:
– Суки!.. – Постоял, раскачиваясь, и снова ударил, всё глядясь в зеркало, затем снова и снова, и всё повторял: – Суки!.. Суки!..
Суки!..
Тубуш вывернулся из-за угла и – глядь: дверца освещённой изнутри машины раскрыта настежь. Льётся негромкая музыка. Совсем зелёная девчонка стоит, взявшись рукой за дверцу, тесно сдвинула стройные ножки, вся напряжённая, стоит и кокетничает, и немножко стесняется своего кокетства, и этот боров с пустым, жирным, раздутым лицом, этот ошмёток когда-то бедной, донельзя бедной, почти нищей семьи, отхвативший себе неприметное, но хлебное местечко, этот первейший в селе самец, свесив толстую длинную ногу, сидит за рулём и что-то нашёптывает ей. Тубуш подкрался ближе.
– Гав! Гав-гав-гав! – залаял злобно, словно предупреждая девчонку о подстерегающей её опасности. – Гав-гав-гав!..
И та мигом вильнула юбчонкой, растворилась в темноте. Её ухажёр презрительно посмотрел на кобеля, смачно сплюнул и, убрав ногу в салон, замахнулся кулаком.
– Какая гадкая собака! – сказал досадливо.
Потом то же самое почему-то повторил по-русски. Потом – по-азербайджански. Потом – по-армянски. Попытался и по-английски, но вышло коряво, смешно, и он ещё раз сказал по-удински:
– Какая гадкая собака!..
Прошлым летом было. Чужая корова перемахнула через плетень и паслась себе в заброшенном огороде. Тубуш слишком поздно вернулся домой и сразу кинулся на неё, на корову, и, озверев от ярости, стал гонять вдоль оградки. А на другое утро оказалось, что как следует искусал её, и этот боров, хозяин коровы, подстерёг его и, загнав в угол, так жестоко, люто отделал лопатой, что от боли и ужаса он обмочился. Тогда целую неделю провалялся в своей ямке под крыльцом. Лежал и стонал, зализывая раны. Соседи приносили кормёжку. Он при них к пище не притрагивался, словно обиделся на весь род людской. Соседи оставляли миску и уходили. Он в одиночестве ел и поправлялся…
По дороге шли двое мужчин. Шли неторопливо, попыхивали сигаретами.
– Слушай, кто же всё-таки прикончил чужака? – спросил один.– Дядюшка Тумас или внук его?
– Какая разница? – ответил другой. – Главное – сумели. Он или внук – всё равно. Старик всё взял на себя – и ладно.
– А я думаю: ерунда это. Ничто нам не поможет – все разъедутся. Вот и хоронят уже без креста – кто тут останется?
– Чего? Как хоронят?
– Без креста. Так вот.
– Откуда знаешь?
– Как откуда – сам видел: вчера на годовщину ходил в нижнюю часть села. Там объявился этот… наш главный туз с наказом: памятник должен быть без креста. Люди стали возмущаться – скандал разразился на кладбище.
– Это что же – сам он надумал? Или кому-то в угоду?
– Его разве поймёшь? И так всё ясно: выживают всех…
– Так и не поставили памятник?
– Как поставишь, если он над душой стоял, кричал, стращал?
– Вот сволочь. Сегодня это, завтра кому-то в угоду заставят обрезаться. Да… все разбегутся, рассеются по всему свету…
Тубуш возвращался домой. Над головой нависла огромная луна. Село понемногу засыпало, гасли окна, выключались телевизоры. Во многих домах спали, кто-то, может, и не спал, лежал в своей постели в горьком и тяжком бдении. Но всё кругом затихло. Лишь где-то вдалеке, точно пробуя голосок, тявкала собачка. Вдруг совсем близко откашлялся мужчина.
– Какая подходящая для воровства ночь,– произнёс негромко.– Луна светит. Сухо.
Тубуш задержал шаг.
– Ладно, быстрее! – грубо и насмешливо возразила женщина.– Помочиться без меня выйти боишься – в разбойники записался. Живей давай, прохладно всё ж!..
Тубуш затрусил дальше. Соседи тоже легли. Погасили свет в спальных комнатах. А родной двор, заглохший в заброшенности, казался средоточием запустения. Тубуш обходил дом, с тоской взглядывая на мутные бельма окон. Он как бы нехотя, лениво брёл, а рядышком неслышно плыла его куцая тень. Пёс и его тень – вот всё, что осталось от былой жизни. Обойдя дом, он стал посреди двора и, задрав голову, завыл:
– У-у-у-у-у!..
Протяжно завыл, с печалью. В ответ – молчание. Только в высоком небе роились звёзды и, казалось, зябко потрескивали. Он ещё раз завыл:
– У-у-у-у-у!..
Потом заполз под крыльцо, лёг в свою ямку и скоро заснул. Спал он беспокойно, тревожно вскидывая голову на всякий шальной звук, на случайный шорох. Изредка он слегка поскуливал во сне – кто знает, может, ему снились хозяева или, может, бело-пегая товарка мерещилась под буйно цветущей белой акацией. Просыпаясь, он краем уха слышал, как струится и шуршит по черепичной кровле роса, размечая тишину поздней ночи редкими сонными каплями с карниза.
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 В Дагестанских Огнях задержана выдача пенсий из-за хищения на почте
В Дагестанских Огнях задержана выдача пенсий из-за хищения на почте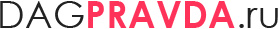





 38
38