Но мне больше всего у донского казака Шолохова из станицы Вёшенской нравится «Поднятая целина». Один дед Щукарь чего стоит! Этот персонаж так и просится на «Весёлый годекан».
Над Гремячим Логом плыл сизый кизячный дымок. Кочета, в третий раз прокукарекав, возвестили об окончательном приходе утра. Ночь растаяла под теплым ветерком с Крутого Яра.
Дед Щукарь, уже вставший под ранний собачий брех, торопко вышел на баз, достал лопату и стал ковыряться на грядках. Откопал какой-то предмет, завернутый в рогожу. Чуткая на сон его старуха проснулась и, выглянув в оконце, принялась следить за эволюциями своего благоверного. Незаметно подкралась к нему.
– Чегой-то ты, старый хрен, сегодня спозаранку грядки копать подрядился? А? А ну покажи, что это у тебя?
Щукарь сразу обмяк: конспирация не удалась.
– Чаво, чаво! – вскипел дед. – Ничего не скроешь от этой турбуленции! Не видишь что ли – левольверт…
– И кого ты это задумал жизни порешить? Али на охоту собрался? Задурил тебе башку этот анчихрист Нагульнов Макар! Только и слышишь: мировая революция, мировая революция…
Старуха плюнула и, вернувшись с база в хату, вынесла торбу с овсом для их единственной живности – старой и слепой клячи, купленной, как помнят читатели, Щукарём еще в прошлом году у плута-цыгана в станице Тубянской.
Дед тоже плюнул.
– Пятая колонна в моей собственной хате! Я рази же для себя стараюсь? Хочу обеспечить ей, дуре, спокойную старость, а она кажный раз срывает мне апирацию…
Дед еще поворчал, но отступать от задуманного не стал. Сунул револьвер в мотню, не без труда взобрался на своего мухортого конягу, прозванного станичным зубоскалом Павлом Любишкиным Мафусаилом, и двинулся в сторону станицы Тубянской, в окрестностях которой, как он узнал вчера от Акима Бесхлебного, опять расположился цыганский табор.
Того цыгана Щукарь узнал сразу. Тот его тоже. Цыган хитро сощурился. Дед посуровел.
– Пойдем, разговор есть…
Когда оба скрылись в буераке за табором, дед достал из мотни револьвер.
– Молись, цыганская душа! Объявляю импичмент!
Цыган рухнул на колени.
– Христа ради! Не лишай жизни, казак! Всё расскажу как было! И деньги верну!
Цыган под дулом щукарёва револьвера, не таясь, рассказал, как они в прошлом году всем табором через камышинку надули живот старой и слепой лошади, чтобы та выглядела упитанной и резвой, а потом выставили на продажу. К несчастью, покупателем оказался дед Щукарь, который ничего не смыслил в лошадях.
– Возвертай денежки, бродяга, пока я тебе самому не встромил в одно место левольверт!
Цыган не стал искушать судьбу. Его сильно напугало слово «импичмент». Бог знает, что это такое! Он достал из нательного цыганского пояса деньги и отсчитал двадцать три рубля – ровно столько стоил Щукарю цыганский аукцион. Казацкая кровь напомнила ему и о своем позорище перед станичниками: тогда слепая на один глаз лошадь вместо резвой рыси начала описывать перед сидящими на завалинке казаками странные круги, потом бессовестно рухнула на землю.
– Ты мне исчо восстанови аморальный ущерб, конокрад треклятый! – потряс Щукарь револьвером.
Цыган восстановил. В размере пяти рублей. Однако Щукарь лошадь возвращать не стал.
– Конхвискую в пользу моей старухи! – объявил он онемевшему от страха цыгану и, вернувшись в станицу, вручил потрясенной супруге двадцать восемь рублей – целое богатство.
Старики этой ночью впервые за последние двадцать лет легли крепко обнявшись. Они до первых кочетов вспоминали свою молодость и пересчитывали деньги.
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже
В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже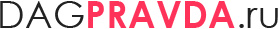





 252
252