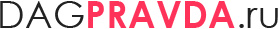08:33 24.11.2012
Общество -
А помнишь, мама?
 70
70
Ранним утром Башир сошел с самолета на маленьком районном аэродроме в горах. Зеленое взлетное поле напоминало скорее пастбище, тем более что совсем рядом пристроились овцы, не обращавшие никакого внимания на самолеты. И только пожилой небритый пастух в папахе из овчины остановил свой взгляд на Башире и тут же отвел глаза. Это было обычное любопытство горца: вроде и хочется узнать, что за новый человек сошел с самолета, и присматриваться совестно.
И этот воздух, пропитанный травами и цветами, чистое небо, слабый говор невидимых родников — все это близкое с детства, казалось, почти забытое, живо и остро напоминало Баширу дом, мать…
Была пора сенокоса. И все вокруг дышало жаркой спелостью трав. Башир остановился, вбирая в себя воздух. Так дышит горожанин, попавший в горы впервые. Так заглатывает утреннюю целительную свежесть тот, кто боится: а вдруг завтра будет поздно. Мысли постепенно прояснялись, а в сердце, придавленном камнем тревожного известия, чуть оживала надежда.
Вчера в сибирском городе, где он жил и работал инженером-строителем, Башир получил телеграмму. Это случилось как раз в тот момент, когда госкомиссия принимала здание Дворца культуры. Осмотр уже подходил к концу, и Башир, не сводивший глаз с молчаливого председателя комиссии, уже угадывал по его посветлевшему лицу, что все будет хорошо, и радовался этому. Еще бы. Этот дворец был их гордостью, их любимым детищем. И теперь готовился стать украшением нового города. С тех пор как заложили нулевой цикл, не было дня, чтобы Башир по дороге на службу не заглянул на стройку. А в выходной, отправляясь в лес или на озеро, они заворачивали сюда всей семьей. И пока сын Абдула с жадностью девятилетнего мальчишки хватал то кирпичи, то железки, они с женой обсуждали, как будут ходить сюда на концерты, а дочь Валентина, которой было уже пятнадцать, — на танцы.
Дворец был готов. В тот самый момент, когда суровый председатель, посветлев лицом, протягивал Баширу руку, между ними некстати выросла секретарша. Башир взглядом дал ей понять, что ее присутствие неуместно сейчас, но секретарша с виноватой настойчивостью протягивала ему какую-то бумажку. И вместо долгожданных слов председателя Башир услышал ее робкий голос.
— Башир Абдулаевич, вам телеграмма.
— А после нельзя было?.. — едва сдерживая раздражение, бросил он и сунул телеграмму в нагрудный карман пиджака. Но секретарша еще более виновато, но не менее настойчиво сказала:
— Башир Абдулаевич, вы, пожалуйста, прочтите… сейчас.
А он уже не слушал ее. Нетерпеливо повернувшись к председателю, он улыбнулся, предлагая продолжить… Но момент был упущен, на лице председателя уже не было покровительственного благодушия, оно выражало лишь терпеливую досаду.
И только много позже, проводив комиссию и вернувшись в свой кабинет, Башир вспомнил о телеграмме.
А через несколько часов он уже сидел в откинутом кресле самолета, и перед его закрытыми глазами проплывали желтые и зеленые склоны гор и холмов, тесные дворы, огороженные камнем, низкие сакли, сложенные из камня. Его аул! Он был таким крохотным, что, казалось, собери в горсть все эти сакли — и они поместятся на одной мужской ладони. Сакля, в которой он рос, ничем не отличалась от остальных. Плоская крыша, аккуратно замазанная землей, земляной пол. Люди, живущие в краю камня, ценили землю, чем ближе к земле, тем человек добрее и щедрее. Так думали горцы. Мать будила Башира рано: «Вставай, мое солнышко. Слышишь, птицы поют, ягнята блеют, жеребята бьют копытцами землю. Погляди, уже роса сошла, телята резвятся на лугу».
Она гладила Башира, и руки ее были горячими и свежими, как утреннее солнце, и пахли хлебом, как земля.
Сын нехотя приоткрывал глаза: сначала один, потом другой. Широкие солнечные лучи лежали на полу. И вся комната как бы шевелилась от дымного света. И вся плясала бликами, отсветами, солнечными зайчиками. А на подоконнике уже лежал херч, и в нем, остывая, исходил паром только что испеченный хлеб, круглый, с красной румяной корочкой. А возле кровати стояла мать. Свет был за ее спиной, и Баширу со сна начинало казаться, что солнечные лучи льются не из окна, а исходят от матери – ее рук, глаз, лица.
Заметив, что сын наконец-то открыл глаза, она расталкивала его, смеясь: «А ну вставай, лентяй, лежебока! Твоя мать уже испекла хлеб. Твой отец настелил уже полы у Омардады. А ты все спишь».
Положив на палас ситцевый платок, белый с черными крапинками, она быстрым и легким движением разламывала хлеб. И такой запах распространялся по комнате, что Башир, начиная чувствовать волчий голод, мгновенно вскакивал. А в дверях уже стоял отец и вытирал руки о серый фартук.
И в тот день также светло горел очаг, также дымилось свежее солнце, и на подоконнике стояла крынка с молоком. За окном уютно постукивал молот. Это отец неподалеку закладывал фундамент нового дома. У очага стояла мать и перебрасывала с ладони на ладонь горячую лепешку хлеба.
Вот тогда-то и вбежал отец. Нет, не вошел, как обычно, деловито и степенно, вытирая о свой рабочий фартук большие красные руки. А вбежал с искаженным, вмиг похудевшим, каким-то чужим лицом.
— Что с тобой? — испугалась мать. И отец ответил:
— Война.
А потом Башир видел, как мимо их дома шли и шли табуны коней. Крутобокие, стройные, рыжие и белые, нервно косясь в сторону уводивших их людей, они процокали мимо дома Башира и скрылись за поворотом дороги.
…Телеграмма в левом кармане пиджака жгла грудь. Башир достал ее, повертел перед глазами, тупо перечитал: «Мама плохая, срочно приезжай». И эти слова, неумело, безграмотно составленные, наверное, старухой-соседкой, гулко пролетевшие пространство, равнодушно отстуканные телеграфисткой, теперь бились в его висках больно и неотступно.
И только здесь, в горах, когда он сошел с самолета, боль немного отпустила. Как будто воздух с запахом вянущей травы да сама трава, на которую он вступил с самолета, обладали чудодейственной силой. А может быть, это оттого, что он дома? Разве дома с человеком может случиться плохое?..
Баширу захотелось сейчас же упасть в траву, уснуть в ней, потонуть, скрыться, чтобы она сомкнулась над ним своими зелеными волнами, стать невидимым, как спрятанные в ней птичьи гнезда. А самому из этого травяного убежища видеть весь крутой и прозрачный купол неба, лежа на спине, ощущать телом шелковистую прохладу земли…
И казалось, в его жизни не было ничего: ни Сибири со старым городом, где он учился, и новым, который строил, ни женитьбы, ни рождения детей, ни достижений, ни обид, ни, наконец, сегодняшней телеграммы.
А если и было, то не по-настоящему, не всерьез.
А было — и всерьез — только его детство с этими высокими, выше головы травами, с горячим камнем и холодной водой под босыми ступнями, с болью от раны, полученной острым серпом, с гордым удивлением от вида своей крови, с успокоительным холодком подорожника, с ласковым мычанием коровы, с пятнистыми яйцами какой-то птицы, найденными в такой же высокой траве, с певучим родным голосом: «Вставай, мое солнышко!
Слышишь, уже птицы поют, ягнята блеют, жеребята бьют копытцами землю».
Мама!.. И Башир поспешил в аул. И ни один человек не встретился ему на пути.
Так он шел по узкой, желтой, петляющей тропинке. Лугов с высокой травой становилось все меньше, а оголенных, скошенных, словно выбритых, участков все больше. Башир догадывался, что аул уже недалеко.
Только в одном месте Башир замедлил шаг. Это было аульское кладбище с высокой травой. Издавна в горах считают, что трава омывает грехи и доносит умершим вести земной жизни. Поэтому даже дети не смеют трогать траву на кладбищах.
Башир, проходя мимо, невольно покосился на старые камни, служившие надгробьем, и тут же отвел глаза.
Где-то высоко в небе зарокотал мотор, и, подняв голову, Башир увидел самолет, который делал круги на посадку. И этот привычный звук успокоил его, возвращая в ту привычную жизнь, которая была у него до этой телеграммы.
А за кладбищем сразу открывался вид на аул.
Башир резко остановился. Да уж не заблудился ли он?
Тот ли это аул, куда он так спешит? Где полтора десятка саклей с земляными утрамбованными крышами? Где голые квадраты дворов? Где открытые веранды с подгнившими подпорками?
Перед ним на утреннем солнце сверкали цинковые крыши. Застекленные веранды тонули в зелени. Домов было так много – целый город в горах, увенчанный телевышкой. И хотя мать не раз писала о том, как изменился аул, все же Башир растерялся. Он, пожалуй бы, повернул обратно, если бы не это кладбище, старое кладбище с железной оградой, скрепленной кое-где обрывками проволоки да пружинными сетками от кроватей.
По узкой каменистой улочке Башир спустился вниз. Женщины у водокачки судачили о чем-то, но смолкли, увидев незнакомого человека. Они не узнали его, и он не узнал их.
Где же стоял их дом? Где дом, обнесенный глыбами нетесаного камня? Сгорая от стыда, Башир остановился посреди улицы, не зная, куда идти дальше. Не было никаких прежних примет, даже от мелкой речушки, что текла посреди дороги, речушки, в которой хозяйки мыли кастрюли да тазы, не видно и следа.
— Ты кого ищешь, дядя? — услышал он тоненький голосок. Мальчик лет четырех смотрел на него, задрав кудрявую голову. Рядом с ним вертелся ягненок, такой же кудрявый, только белый.
— Скажи, где здесь дом Абдулы? — спросил Башир, стесняясь самого себя. Все-таки хорошо, что встретился ему ребенок. Хоть не пришлось позориться.
— Это того Абдулы, что работает мельником? — спросил мальчик.
— Нет, нет.
— А-а, садовника?
— Да нет же.
— Другого Абдулы я не знаю.
— Ну где дом Аминат?
-Ах, Аминат, — обрадовался мальчик. — Пошли, покажу. — И он побежал вперед, поминутно оглядываясь на ягненка, который послушно пошел за ним.
«Раз мальчик не сказал ничего, значит, она жива», — быстро сообразил Башир, и надежда снова затеплилась в нем. Ему захотелось помчаться, как этот мальчик, ногой распахнуть ворота, крикнуть с порога: «Мама, это приехал я, Башир!»
— Вот дом Аминат, дядя, — и мальчик остановился у голубых ворот. За ними сквозь зелень деревьев просвечивал дом, крытый железом, сверкающий свежей краской.
Башир опять растерялся.
— Ты, наверно, напутал. Мне нужна Аминат, которая работает уборщицей в школе, — сказал он с досадой.
— Она и работала в школе уборщицей, — чуть обиженно проговорил мальчик.
«Почему работала?» — быстро и тревожно подумал Башир. И тут же успокоил себя: «Наверное, ушла наконец, послушалась-таки. Давно ведь уговаривал оставить работу».
И этот нарядный дом, ухоженный, прибранный, успокаивал. Разве в таком доме может случиться несчастье? Нет. Там, где беда, все запущено, все заброшено…
— Башир! – наконец выкрикнул кто-то. И сразу все окружили его.
— А как она ждала тебя, все смотрела на двери.
— Осиротел ты совсем, как кукушкино яйцо.
Башир тупо смотрел на женщин. На какой-то миг крыльцо и женщины приподнялись перед его глазами, а потом опустились, как на качелях.
«Все читала твои письма, – доносилось до него из далекого далека. — Все из рук не выпускала. Спасибо тебе, что так часто радовал ее».
«Упрекают, — с горечью подумал Башир. — Намекают, что почти не писал».
И сожаление о том, чего уже не вернуть, вспыхнуло в нем, как молния. Острая стрела прошла сквозь сердце, пробила его, как тучу, наполненную дождем, и он заплакал….jpg)
.jpg)
.jpg)
А потом Башир сидел на диване рядом с дядей Мустафой, братом отца, и Мустафа, как мог, утешал его.
С тех пор как они расстались, дядя сильно постарел. Его бороду и волосы словно облили белой пеной, а лицо изрезали глубокие морщины. Под глазами, выцветшими и потухшими, мешочки обвислой кожи. Прежним был только шрам на подбородке. Дядя, вернувшись с фронта, любил рассказывать, как ему достался этот шрам. Баширу всегда казалось, что дядя потому такой красивый, что у него на подбородке шрам. И часто маленький Башир перед зеркалом сжимал свой подбородок, делая на нем складку, и тогда ему казалось, что он выглядит мужественно, как настоящий солдат.
— Ты, сынок, держись, как подобает мужчине, — вразумлял его Мустафа. -Ты делал для нее все, что мог. Тебе не в чем себя упрекнуть. А вот другие сыновья за десять лет и письма не пришлют матери.
«О каких письмах они все говорят?» — подумал Башир, уже засыпая.
Долгая дорога да пережитые волнения сморили его. А когда проснулся так же неожиданно, как и уснул, то по особенной, знобящей, предутренней тишине догадался, что ночь прошла и он вступает в новый день, как в другой мир, где у него больше нет матери.
И хотя Башир, как и многие сыновья, редко виделся с матерью и даже не часто вспоминал о ней, все же сознание, что она есть, что она по-прежнему живет там, где осталось его детство, в маленьком домике за каменным забором, в чистом краю, окруженном горами, и уверенность, что так будет всегда, что иначе и быть не может, это сознание делало его сильным и уверенным.
Теперь он остался один на один с жизнью.
Башир огляделся. Он узнал ту большую комнату, где в зимние морозные вечера они спали у очага на полу. Теперь пол был выстлан новыми досками. Над диваном домотканый яркий ковер. У стены трехстворчатый шифоньер.
Башир шагнул в другую комнату, и рука его нащупала выключатель за дверью. Резко ударил в глаза свет. Эта комната была совсем маленькой. Терпкий запах лекарств пропитал ее насквозь. Хотя окно было открыто. Напротив окна у стены стояла высокая кровать с никелированными спинками. Пышно вздымалась в изголовье гора пуховых подушек.
«Наверное, здесь…», — подумал Башир, сдерживая дрожь, подошел к кровати. Возле нее на столике стоял сундучок. Это был тот самый сундучок-шкатулка, который в детстве так притягивал Башира. Повернув точеный ключик, он, бывало, открывал чугунную крышку и, сдерживая дыхание, заглядывал внутрь. Чего там только не было в этом мамином сундучке: и бусы, и четки, и пуговицы. Глаза разбегались. Нетерпеливо зачерпывал он руками все это богатство и рассыпал на столе. Зимними вечерами при свете чираха эти дешевые бусы, эти сломанные пуговицы вспыхивали, как сокровища Аладдина.
И сейчас, как тогда, Башир с волнением повернул ключ, откинул крышку. Но в сундучке не было ни четок, ни бус. Только пачка писем, перетянутых резинкой. Разочарованный, он уже хотел захлопнуть крышку, как внимание привлек адрес на конверте. Кто бы это мог писать матери? И не об этих ли письмах они говорили?
Он вытянул из пачки один конверт. В нем оказался корешок от денежного перевода и письмо. Корешок Башир узнал сразу: ведь он сам заполнял бланк, отправляя матери деньги. А вот письмо?..
«Бесконечно дорогой мой человек, родная моя мама, — писал кто-то от его, Башира, имени, словно у него был двойник. — Прости, что я не могу приехать. Дел очень много. Но я все время думаю о тебе. И не бывает минуты, чтобы я не вспоминал тебя и наш аул. Помнишь, мама, тот вечер, когда наша корова не вернулась из стада. И мы с тобой пошли ее искать. Мы заглядывали в каждую пещеру, но ее нигде не было. Потом я устал и больше не мог идти, и ты несла меня на спине. Мы так долго искали корову, что заблудились. Я совсем замерз. А ты прижала меня к большому дереву и заслонила меня собой. Всю ночь ты согревала меня. А утром в ущелье Чандыкала мы нашли рожки да ножки от нашей коровы; ее задрали волки. Помнишь, мама, как я плакал по нашей Белоголовой. А ты ушла куда-то, оставив меня у дяди Мустафы. Вернулась ты только через три дня и привела другую корову, но тоже с белой звездочкой во лбу. После я узнал, что ты продала свое кольцо и серьги – подарок отца к свадьбе. Помнишь, мама, я тогда сказал, что когда вырасту, обязательно куплю тебе серьги и кольцо еще лучше прежних. Дорогая мама, посылаю тебе деньги. Купи себе на них кольцо с таким же розовым камушком и серьги с дрожащими листочками.
Целую тебя крепко. Твой любящий сын Башир».
…Мама, ты не все написала. Помнишь, когда ты вернулась, твои ноги были в кровавых подтеках, и вся ты была исцарапана. Это потому что корова тащила тебя обратно, пытаясь вернуться к прежним хозяевам. А утром на дворе, залитом солнцем, я стоял возле тебя, пока ты доила корову, и потом в мою подставленную кружку, текло молоко. Почему все плохое доставалось тебе, а мне – только хорошее?
Башир нетерпеливо раскрыл второе письмо. И оно было написано тем же крупным почерком его матери.
.jpg) «Бесконечно дорогая моя мама, ты не представляешь, как я по тебе скучаю. Но, прости меня, опять не могу приехать. Мы строим здесь новый город. Твой сын работает на стройке каменщиком. Помнишь, ты всегда говорила: «Сын мой, не дай заржаветь молотку и мастерку отца». Хочу поделиться с тобой нашей радостью, сегодня мой сын Абдула вступил в пионеры. А помнишь, мама, как принимали в пионеры меня. Помнишь, как мы готовились к этому дню. Тогда шел первый год войны. Красную материю достать негде. Помнишь, мы пешком ходили в район, за пятнадцать верст, но, конечно, и там ничего не нашли. И тогда дома ты открыла наш сундук. Ты достала оттуда свое любимое красное платье. Ты надевала его только один раз: когда из источника в горах по трубам пошла вода в аул. Первый водопровод в ауле. Это был настоящий праздник. И ты танцевала в красном платье и в белом тастаре. И вот, мама, ты порезала это платье. Я плакал, просил тебя не делать этого и вырывал у тебя из рук ножницы. А на другой день на многих ребятах были галстуки из твоего платья. И тогда-то, моя бесценная мама, я дал себе клятву, что буду учиться на «отлично», а потом, когда вырасту, заработаю деньги и куплю тебе такое же платье.
«Бесконечно дорогая моя мама, ты не представляешь, как я по тебе скучаю. Но, прости меня, опять не могу приехать. Мы строим здесь новый город. Твой сын работает на стройке каменщиком. Помнишь, ты всегда говорила: «Сын мой, не дай заржаветь молотку и мастерку отца». Хочу поделиться с тобой нашей радостью, сегодня мой сын Абдула вступил в пионеры. А помнишь, мама, как принимали в пионеры меня. Помнишь, как мы готовились к этому дню. Тогда шел первый год войны. Красную материю достать негде. Помнишь, мы пешком ходили в район, за пятнадцать верст, но, конечно, и там ничего не нашли. И тогда дома ты открыла наш сундук. Ты достала оттуда свое любимое красное платье. Ты надевала его только один раз: когда из источника в горах по трубам пошла вода в аул. Первый водопровод в ауле. Это был настоящий праздник. И ты танцевала в красном платье и в белом тастаре. И вот, мама, ты порезала это платье. Я плакал, просил тебя не делать этого и вырывал у тебя из рук ножницы. А на другой день на многих ребятах были галстуки из твоего платья. И тогда-то, моя бесценная мама, я дал себе клятву, что буду учиться на «отлично», а потом, когда вырасту, заработаю деньги и куплю тебе такое же платье.Целую тебя крепко. Твой сын Башир».
Эти нежные слова, эти воспоминания так живо напомнили Баширу детство, что, забывшись, он тихо сказал «мама» и не узнал собственного голоса.
…Мама, ты не все вспомнила. Ты, родная, не все написала. Ведь когда ты разрезала на галстуки свое платье, я вовсе не останавливал тебя. Наоборот, я радовался, что у меня будет такой красивый галстук. Я не думал тогда, что ты разрезала свою молодость. Забыла ты, мама, что из своей черной юбки ты перешила мне брюки, а из своей белой блузки сшила рубашку. Тебе хотелось, чтобы в этот день, в день вступления в пионеры, твой сын был самым нарядным.
Еще один конверт из пачки писем. Там тоже были корешок от денежного перевода и сложенный вдвое листок.
«Моя дорогая мама, прости ты меня, что я не рядом с тобой, что не могу поцеловать твои мозолистые руки. За какой только работой я их не заставал! А помнишь, мама, тот весенний день, день первой пахоты. Шел второй год войны. Все мужчины аула, конечно же, были на фронте. А я еще не подрос, еще не был мужчиной и пахать не мог. На поле были только женщины. И ты с ними. Все, как ты, в первый раз встали за плуги, а потому борозда за ними шла неровная, совсем мелкая. А я тянул за собой быков. Они хватали корни из вывороченной земли и жевали их. Мне тоже захотелось этих сладких-сладких корней. Я поднял корешок, но ты вырвала его у меня из рук. Я сначала удивился, а потом понял: ты боялась, как бы я не съел корень ядовитого сорняка. А когда мы остановились, потому что быкам надо было дать отдохнуть, ты сама собирала корни, очистив их от земли, давала мне. Они пахли весенней обновленной землей. А помнишь, мама, сенокос, в Чандыкале? Ты взяла меня с собой и, чтобы солнце не обжигало меня, сделала шалашик из больших лопухов. Я сидел под лопухами и смотрел на тебя. Ты быстро уходила, а за тобой тянулась ровная скошенная полоса: наверное, серп был острым, как бритва. Помню, ты прибежала, заглянула ко мне в шалаш. И на ладони у тебя лежали янтарные соты, а в них прозрачные горошины. Я спросил, что это такое? И ты ответила: «Сынок, это пчелиные слезы. Они сладкие, потому что рождены от поцелуев пчелы и лепестков». Я ел прозрачные горошины, а ты смотрела на меня, и лицо у тебя было счастливым. Я протянул тебе соты, но ты покачала головой и отвела мою руку. Дорогая моя мама, высылаю тебе эти деньги. Купи себе много сот с пчелиным медом.
Твой любящий сын Башир».
…Мама, не так это было. Я один съел все соты, я ничего тебе не предлагал. Вытер руки о траву и даже не сказал тебе спасибо.
И ты забыла, что в тот же день на сенокосе меня ужалила змея. Ты побледнела, как мел, и бросилась ко мне. Высосав отравленную кровь, ты спасла меня от смерти. Тогда я не думал, мама, что ты сама могла бы отравиться этим ядом.
Башир уже давно говорил вслух, говорил горячо, сбивчиво и вынимал один конверт за другим. И из каждого конверта падал корешок перевода, где на обратной стороне в графе для письма были написаны одни и те же слова: « Мама, привет, высылаю тебе деньги. Твой Башир».
И, словно, опровергая эти скупые дежурные слова, перед Баширом бесконечным укором вставали другие, в которых он видел материнскую тоску по его любви и нежности…
«Моя дорогая мама, бесценная моя! Ты даже не знаешь, как я горжусь тобой. Помнишь ту зиму, те ранние заморозки. Отары еще не перешли на зимние пастбища, а снег уже выпал. И вот овцы стали вымирать. Я вижу, как в большом платке, перетянутом крест-накрест, и в отцовских кирзовых сапогах ты бежишь от одного дома к другому. Всех ягнят распределила, а у нас так не только в хлеву, но и в комнате было полно ягнят. А потом всю зиму ты ходила в горы, вырывала из-под снега прошлогоднюю траву и кормила ягнят.
Однажды мы вернулись особенно продрогшие и сразу же легли спать у очага. И вдруг кто-то постучал в окно. Помню, как ты вскочила со словами: «С доброй вестью ночью не постучат». Я весь сжался под одеялом. И тут услышал твой крик: «Ах ты трус! Пока мужчины воюют, ты, ты… Но не всегда мышам удается прогуляться по амбарам, в которых нет кошек».
А потом ты склонилась надо мной и шептала: «Вырастай скорей, будешь мне скалой и горою. Ни один трус не посмеет сунуться в наш дом». Я хочу, мама, быть твоей защитой. Напиши, что тебе нужно, и я все для тебя сделаю.
Твой сын Башир».
И вот последний конверт. В нем было три листка – самое длинное письмо.
«Мой дорогой друг, моя бесценная мама! Ты прости своего сына, что не уберег он тебя от сплетен. Но ты, самый близкий мне человек, должна понять меня. Я отказался от своей невесты, которую ты для меня засватала в ауле. Но не потому, что не уважаю законы гор, не потому, что не уважаю тебя. Здесь, в Сибири, я полюбил девушку. И ты полюбишь ее, мама, вот увидишь. Ее душа щедра и красива, как наши горные луга. Мама, только полюбив сам, я понял, как помешал твоему счастью. Я говорю о дяде Садыке, который почистил нам дымоходную трубу и починил нашу табуретку. Но, заметив твое внимание к нему, я стал его ненавидеть. А однажды, нагрубив тебе, убежал из дома. Как я теперь жалею об этом! Может быть, сейчас у меня был бы брат или сестра, ты не была бы такой одинокой. С тех пор я никогда не видел у нас дяди Садыка. А потом и вовсе узнал, что он женился. Ты сразу постарела, моя мама. А я ничего не замечал.
Помнишь, мама, когда я был маленький, ты, ероша мне волосы, любила приговаривать: «Ты вырастешь, станешь сильным и смелым. Самая красивая девушка полюбит тебя. Она войдет в нашу саклю солнцем, что освещает дом огнем, что согревает очаг. Мне она подарит платок, ясный, как весенний луг. Я сниму свой вдовий черный. И все будут поздравлять меня».
Дорогая мама, я посылаю тебе в подарок от твоей русской невестки цветастый платок. Хватит тебе ходить в черном, вдовьем…».
…Мама, как мне загладить свою вину? Что мне сделать, чтобы оправдаться перед тобой? Научи! Башир и не замечал, что плачет. Его сжигал огонь сожаления, его горькие воспоминания опровергали и это последнее письмо. «Мама, ты все забыла. Только через два года ты узнала, что я женился. А сколько раз ты нас просила приехать! Мы отдыхали в Крыму, на Кавказе, в Болгарии. По турпутевкам исколесили Закарпатье и Прибалтику. И только до тебя все не могли добраться. И вот в один прекрасный день ты сама появилась у нас с банками, сетками, кульками. На тебе был яркий платок. Наверное, ты хвалилась в ауле – подарок невестки. Помнишь, мама, как ты ходила со мной по нашему городу, маленькая и строгая. И твой сын, рожденный тобой мужчина, был вдвое выше тебя. С безмолвной гордостью ты смотрела на дома, которые я строил. И ни слова упрека ты мне не сказала».
Погруженный в свои тяжелые мысли, Башир и не заметил, как в комнату вошел его дядя Мустафа.
— Как, ты совсем не ложился? Так нельзя, Башир, — и, заметив в его руках письма, добавил: — Наши женщины правильно говорили, что если бы разделить твое внимание к матери на всех матерей аула, хватило бы с лихвой. Всем показывала она твои письма. А сколько посылал ты ей денег! Она смогла даже заново отстроить дом. Все торопилась: «Вот приедет Башир с женой и детьми». Все предусмотрела: в какой комнате обедать, в какой спать… Даже газ выпросила провести ей первой.
— И долго жила она в этом доме? — глухо спросил Башир.
— Да нет, с месяц, не больше… А это она просила передать тебе, – и Мустафа вытащил из кармана коробочку.
Башир открыл ее. Там было кольцо с розовым камушком и серьги с дрожащими лепесточками…
Дом матери Башир передал колхозу для детского сада. А на кладбище поставил памятник из глыбы черного мрамора. Среди надмогильных камней из белых горных пород этот выделяется, как черный орел в стае белых голубей.
На фотографии, вделанной в мрамор, простая горянка в традиционном цветастом платке. А под фотографией надпись золотом: «Помни, мама, если ветер донесет до тебя чей-то плач, это плачу я без тебя. Твой сын Башир».
Статьи из «Общество»
Срочно нужен налог на глупость
 10
10Мы часто выбираем тех, кто потом нас по-всякому мощно утюжит. И речь сейчас совсем не о семейном союзе, как можно было бы подумать. Я...
Командир разведчиков
 5
5Этот сильный и мужественный человек прожил трудную, но достойную жизнь. После окончания двух курсов Буйнакского педучилища Магомед Гасанов работал учителем...
Бесстрашный защитник
 7
7Больше месяца мужественно сражались с фашистами воины Брестской крепости. Сами гитлеровцы...
Поворачиваешь – включи сигнал
 7
7Какое наказание предусмотрено, когда водители забывают о существовании рычага включения...
Легендарная «Копейка»
 8
8Этот автомобиль перевернул всю отечественную автоиндустрию, прочно вошел в культуру и...
Раз и на всю жизнь
 347
347Раньше в журналах и газетах была рубрика «Путевые заметки». Журналисты знают, что в рамках...
Гасан Алкадарский и его главный труд
 493
493_ В этом году исполняется 190 лет со дня рождения Гасана...
Артур Бетербиев – абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе
16 часов назад
- Новости
Абумуслим Курбаналиев провел прием граждан
1 день назад
- Новости
Фирудин Раджабов посетил школу в Докузпаринском районе
1 день назад
- Новости
В Каспийске прошёл арт-тур «Связь поколений»
2 дня назад
- Новости
 Купить PDF-версию
Купить PDF-версию
 Наша задача – динамичное развитие
Наша задача – динамичное развитие